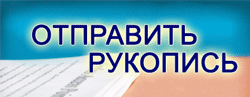Трогоцитоз адаптивными NK-клетками фрагментов мембран B-лимфоцитов при активации хронической ВЭБ-инфекции приводит к экспрессии CD19 на NK
- Авторы: Калашникова А.А.1, Бычкова Н.В.2, Ракитянская И.А.3
-
Учреждения:
- ФГБУ Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова МЧС России
- ФГБУ НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова Минздрава России
- СПбГБУЗ Городская поликлиника № 112
- Выпуск: Том 15, № 3 (2025)
- Страницы: 589-504
- Раздел: ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
- Дата подачи: 17.01.2025
- Дата принятия к публикации: 18.05.2025
- Дата публикации: 15.09.2025
- URL: https://iimmun.ru/iimm/article/view/17850
- DOI: https://doi.org/10.15789/2220-7619-ANC-17850
- ID: 17850
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В последнее десятилетие появились сообщения о выявлении в крови и костном мозге NK-клеток со слабой коэкспрессией CD19. Практически отсутствует оценка частоты встречаемости и относительного количества CD56+CD19+dim клеток, нет данных о связи с какой-либо патологией. Ранее мы показали, что эта субпопуляция имеет фенотип адаптивных NK-клеток. Возможной причиной появления CD19 на NK может быть трогоцитоз мембран В-лимфоцитов при активной ВЭБ-инфекции. Цель: выявить факторы, способствующие появлению в периферической крови субпопуляции CD56+CD19+dim NK-лимфоцитов у пациентов с герпетической инфекцией. Материалы и методы. Проанализированы кровь, слюна и другие биологические жидкости 225 пациентов (34,6±8,5 лет, 71% женщин). Хроническая персистирующая ВЭБ-инфекция отмечена у 29% лиц, ЦМВ — у 2,2%, микст-инфекция — у 10%. Врач-инфекционист оценивал средний стаж и активность заболевания. Определяли иммуноглобулины к ЦМВ классов M (иммунохемилюминесценция) и G с авидностью (иммуноферментный анализ) в сыворотке; ДНК ЦМВ и ВЭБ (ПЦР-РВ) в биологических жидкостях. Исследовали субпопуляции лимфоцитов крови (проточная цитометрия) с оценкой содержания CD19+dim NK-клеток. У лиц без IgG к ЦМВ субпопуляция CD19+dim NK-клеток не определена. Выявлена взаимосвязь между наличием в биологической жидкости ДНК каждого из вирусов и присутствием CD19+dim NK-клеток в крови. Доля CD19+dim NK-клеток была максимальной при активной репликации обоих вирусов и снижалась при отсутствии активной репликации ЦМВ. Среди лиц с микст-инфекцией субпопуляция определена в группе более молодых пациентов со средним стажем ВЭБ-инфекции свыше 4 лет, ЦМВ-инфекции — около 3 лет. В этой группе не выявлены значительные изменения содержания общих иммуноглобулинов, в анамнезе отсутствовали заболевания, подавляющие адекватный гуморальный иммунный ответ. Среди лиц с микст-инфекцией, но без CD19+dim NK-клеток, чаще отмечали снижение общих иммуноглобулинов и наличие заболеваний, приводящих к нарушению продукции специфических иммуноглобулинов. Появлению в крови CD19+dim NK-лимфоцитов способствует ЦМВ-инфекция, наличие длительной хронической ВЭБ-инфекции с активацией на момент исследования, сохранный гуморальный иммунный ответ. CD19+dim NK-клетки не определены у лиц без ЦМВ-инфекции в анамнезе, при отсутствии активации ВЭБ, при наличии заболеваний, приводящих к нарушению гуморального иммунитета. Появление в крови субпопуляции CD56+CD19+dim является следствием участия адаптивных NK в противовирусном ответе при высоком содержании нейтрализующих антител и маркером трогоцитоза В-лимфоцитов, связавших ВЭБ. Возможность присутствия в крови CD19+dim NK-лимфоцитов необходимо учитывать при фенотипировании В-клеток, поскольку их наличие может приводить к некорректному результату.
Ключевые слова
Полный текст
Введение
В последнее десятилетие среди зарубежных публикаций встречаются упоминания о минорной популяции NK-лимфоцитов, экспрессирующих на мембране линейный В-клеточный антиген CD19 [15, 26]. Эту популяцию описывают в периферической крови и костном мозге детей и взрослых [7, 17, 26]. Частота встречаемости CD56+CD19+dim клеток невелика — среди образцов крови взрослых лиц, обследуемых с подозрением на иммунодефицитное состояние, она составляет 1,2% [3] и увеличивается до 4,4% среди образцов крови детей [15]. Максимальная частота встречаемости этой популяции, составляющая 15%, отмечается среди образцов костного мозга детей с В-клеточным острым лимфобластным лейкозом после этапов индукционной и консолидационной терапии [7]. Минимальный выявляемый объем субпопуляции CD56+CD19+dim определяется чувствительностью исследования, а именно количеством проанализированных клеток, и составляет 0,004% от лейкоцитов при анализе не менее 500 000 событий в лейкоцитарном регионе при исследовании минимальной определяемой болезни [26]. Эта популяция может составлять значимую долю от лейкоцитов [3] и влиять на результаты рутинных исследований по определению субпопуляционного состава лимфоцитов или минорных субпопуляций В-клеток при использовании CD19 в качестве единственного линейного В-лимфоцитарного маркера или отсутствии в пробе антител к CD56 и некоторым другим NK-клеточным антигенам.
В настоящее время отсутствуют представления о значении субпопуляции CD56+CD19+dim клеток при различной патологии. NK-лимфоциты с коэкспрессией CD19 отмечаются при острых и хронических В-клеточных лимфопролиферативных заболеваниях [7, 17], при инфекции COVID-19 [11] и других патологических состояниях [15].
В нашем предыдущем исследовании было показано, что фенотип CD56+CD19+dim соответствует адаптивным NK-лимфоцитам — особенной популяции клеток, формирование которой связано с цитомегаловирусной инфекцией [3]. Стабильные эпигенетические модификации, возникающие под влиянием цитомегаловируса (ЦМВ), приводят к изменению клеточного метаболизма, увеличению продолжительности жизни адаптивных NK-лимфоцитов и определяют преимущественную экспрессию молекул, опосредующих участие в реакциях антителозависимой клеточной цитотоксичности (АЗКЦ) с вовлечением CD16, но не противоопухолевую активность, опосредованную рецепторами естественной цитотоксичности [19].
В недавних экспериментальных исследованиях была показана возможность различных исходов взаимодействия В-лимфоцитов, опсонизированных гликопротеином gp350 вируса Эпштейна–Барр (ВЭБ), и NK-клеток в зависимости от вовлечения клетки-мишени в инфекционный процесс при наличии соответствующих специфических антител. Если в инфицированном В-лимфоците ВЭБ находится в литической фазе жизненного цикла, осуществляя активную репродукцию с формированием новых вирионов, то результатом является развитие реакций антителозависимой клеточной цитотоксичности и лизис В-лимфоцита. При взаимодействии с неинфицированной В-клеткой, имеющей на мембране связавшуюся с CD21 вирусную частицу, жизнеспособность клетки-мишени чаще всего сохраняется [21]. В последнем случае, как было продемонстрировано в более поздних экспериментальных исследованиях этого коллектива, элиминация ВЭБ осуществляется посредством антителозависимого трогоцитоза — захвата и переноса NK-клеткой фрагмента мембраны В-лимфоцита с вирусной частицей — и последующей интернализацией вируса в ранние эндосомы и лизосомы NK-клетки [4]. Трогоцитоз в условиях in vitro приводил к появлению на мембране NK-клеток ряда молекул клетки-донора, а именно CD19, CD20 и CD21. Однако фенотипирование CD19+ NK-клеток периферической крови пациентов с различными заболеваниями не выявило экспрессии других В-клеточных антигенов [3, 15, 26]. Тем не менее гипотеза о трогоцитозе В-клеток, опсонизированных ВЭБ, как причине появления CD19 на мембране NK-клеток представляется убедительной, и служит основанием для предположения о существовании взаимосвязи выявления в крови пациентов субпопуляции CD19+ NK-лимфоцитов с активацией хронической ВЭБ-инфекции.
Цель исследования: определить факторы, способствующие появлению в периферической крови субпопуляции CD56+CD19+dim NK-лимфоцитов у пациентов с герпетической инфекцией.
Материалы и методы
Проанализированы результаты обследования пациентов с клиническими симптомами герпетической инфекции (n = 225), обратившихся к врачу-инфекционисту в период с 2015 по 2023 г. для клинико-лабораторного обследования и лечения. Значительная часть лиц имела в анамнезе лабораторно подтвержденную хроническую персистирующую герпетическую инфекцию: у 29% — ассоциированную с ВЭБ, у 2,2% — ассоциированную с ЦМВ, у 10% — микст-вирусную инфекцию. Некоторые пациенты наблюдались на протяжении нескольких лет, им обследование проводили неоднократно. Выполнено 255 комплексных лабораторных исследований. Средний возраст пациентов составил 34,6±8,5 лет, преобладали женщины (71%).
Лабораторные исследования проводились на базе ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России и включали: определение в сыворотке крови иммуноглобулинов классов M и G (IgG с индексом авидности) к антигенам ЦМВ (n = 255), общих иммуноглобулинов классов A, M, G (n = 24); выявление ДНК ЦМВ и ВЭБ в слюне (n = 255), крови (n = 180) и других биологических жидкостях (n = 18); изучение субпопуляционного состава лимфоцитов периферической крови (n = 255) с оценкой содержания CD56+CD19+dim субпопуляции NK-лимфоцитов.
Взятие крови проводили из локтевой вены с использованием вакутейнеров с ЭДТА или активатором свертывания. Взятие слюны осуществляли в стерильный пластиковый контейнер с завинчивающейся крышкой после трехкратного полоскания полости рта кипяченой водой.
Концентрацию общих иммуноглобулинов оценивали методом турбидиметрии (DxC 700AU, реактивы и прибор Beckman Coulter, США). Содержание специфических иммуноглобулинов к белкам ЦМВ определяли следующими методами: IgM — методом иммунохемилюминесценции (Immulite 2000, Siemens, США), IgG с индексом авидности — иммуноферментного анализа (ВектоЦМВ-IgG-авидность, АО «Вектор-Бест», Россия). Определение концентрации вирусной ДНК в биологических жидкостях проводили методом ПЦР-РВ (Ампли-Сенс EBV/HHV6/CMV-FL, ЦНИИ эпидемиологии, Россия). При выявлении вирусных ДНК в биологических жидкостях говорили об активной местной репликации соответствующего вируса.
Для оценки субпопуляционного состава лимфоцитов использовали восьмицветную панель моноклональных антител: HLADR-FITC, CD4-PE, CD3-ECD, CD56-PC5.5, CD25-PC7, CD8-APC, CD19-APC-AF700, CD45-APC-AF750. Для лизиса эритроцитов применяли VersaLyse. Анализ образцов проводили на проточном цитофлюориметре Navios в соответствии с инструкциями к реактивам (реактивы и прибор Beckman Coulter, США). При исследовании субпопуляционного состава лимфоцитов накопление проводили до 5000 событий в лимфоцитарном регионе, определяемом как CD45+brightFSdimSSdim. Субпопуляцию NK-лимфоцитов с коэкспрессией CD19 (CD56+CD19+dim) оценивали как CD56+CD19+dimCD3–HLADR–+dim клетки и считали положительной при выявлении более 10 событий в целевом регионе, что составляло 0,2% и более от лимфоцитов.
Статистическую обработку результатов проводили с помощью пакета Statistica 12.0 (StatSoft). Для выявления и оценки тесноты связи между количественными признаками использовали непараметрический корреляционный анализ по Спирмену. Частотный анализ проводили с использованием четырехпольных таблиц сопряженности на основании критерия χ2 Пирсона. Для сравнения групп использовали критерий Манна–Уитни. Статистически значимыми различия сравниваемых показателей считали при p < 0,05.
Результаты
Наличие в крови субпопуляции NK-лимфоцитов с коэкспрессией CD19 связано с предшествующей ЦМВ-инфекцией
Субпопуляция CD56+CD19+dim клеток (рис. 1) выявлена в 21 образце крови 18 человек.
Рисунок 1. Субпопуляция CD56+CD19+dim клеток в периферической крови (пациент Д., 45 лет)
Figure 1. Subpopulation of CD56+CD19+dim cells in peripheral blood (patient D., 45 years old)
Примечание. Субпопуляция CD56+CD19+dim клеток выделена черной рамкой и стрелкой.
Note. Subpopulation of CD56+CD19+dim cells is highlighted in black frame and an arrow.
Частота встречаемости субпопуляции CD56+CD19+dim среди всех обследованных лиц составила 8%. Эти клетки выявлены только в образцах крови пациентов, имевших ЦМВ-инфекцию в анамнезе и положительные результаты определения высокоавидных специфических IgG к ЦМВ в сыворотке крови.
Всего высокоавидные IgG к ЦМВ были выявлены у 187 человек, в этой группе частота встречаемости субпопуляции CD56+CD19+dim составила 9,6%. У троих пациентов были выявлены специфические IgM к цитомегаловирусу: у 2-х имела место первичная ЦМВ-инфекция, у 1-го — реактивация хронической инфекции.
Наличие в крови субпопуляции NK-лимфоцитов с коэкспрессией CD19 связано с активной репликацией ВЭБ
Результаты определения вирусных ДНК в биологических жидкостях пациентов, имевших высокоавидные IgG к ЦМВ, позволили выделить четыре подгруппы: 1 — лица без лабораторных признаков активной репликации герпесвирусов, 2 — репликация только ЦМВ, 3 — репликация только ВЭБ, 4 — репликация обоих вирусов. Оценка частоты встречаемости субпопуляции CD56+CD19+dim лимфоцитов в крови обследованных лиц в зависимости от выявления IgG к ЦМВ и наличия ДНК герпесвирусов в биологических жидкостях представлена на рис. 2.
Рисунок 2. Частота выявления субпопуляции CD56+CD19+dim лимфоцитов в крови пациентов в зависимости от наличия вирусных ДНК в биологических жидкостях
Figure 2. Frequency of detection of the CD56+CD19+dim lymphocyte subpopulation in the blood of patients depending on the presence of viral DNA in biological fluids
Как видно из рис. 2, субпопуляция CD56+CD19+dim клеток не была выявлена в крови как пациентов без ЦМВ-инфекции в анамнезе, так и у лиц, имевших высокоавидные IgG к ЦМВ, но без активной репликации ВЭБ на момент обследования. Таким образом, было сделано предположение о необходимости выполнения двух условий для появления в крови CD19+ NK-лимфоцитов. Первое — встреча с цитомегаловирусной инфекцией, приводящей к формированию пула адаптивных NK-клеток. Второе — наличие активной репликации ВЭБ.
Активная сочетанная репликация герпесвирусов увеличивает вероятность появления CD19+ NK
У всех пациентов, в крови которых была определена субпопуляция CD56+CD19+dim клеток, выявлена активная репликация вирусов герпеса в биологических жидкостях, в 12 случаях — обоих вирусов, в 6 — только ВЭБ (табл. 1). Необходимо отметить, что высокое содержание копий ДНК ВЭБ в биологических жидкостях пациентов было связано с клинической картиной активации хронической ВЭБ-инфекции, потребовавшей назначения врачом-инфекционистом специфической терапии. В табл. 1 результаты обследования пациентов 4 и 11 представлены в динамике, у пациента 11 при последнем визите клетки CD56+CD19+dim в крови не определены.
Таблица 1. Содержание ДНК вирусов ВЭБ и ЦМВ в биологической жидкости пациентов, имеющих в крови субпопуляцию CD56+CD19+dim клеток (21 образец 18 пациентов)
Table 1. The content of EBV and CMV virus DNA in the biological fluid of patients with a subpopulation of CD56+CD19+dim cells in the blood (21 samples of 18 patients)
№ | Доля CD56+CD19+dim от лимфоцитов, % Proportion CD56+CD19+dim from lymphocytes, % | ЦМВ, копий ДНК/мл CMV, DNA/ml | ВЭБ, копий ДНК/мл EBV, DNA/ml |
1 | 0,3 | 0 | 1,6 × 103 |
2 | 0,2 | 1,3 × 103 | 2,3 × 103 |
3 | 0,3 | 0 | 1,7 × 107 |
4 | 1,2 | 0,4 × 103 | 2,5 × 103 |
1,2 | 0,4 × 103 | 1,5 × 103 | |
0,5 | 0 | 1,8 × 103 | |
5 | 0,4 | 1,2 × 103 | 1,8 × 103 |
6 | 8,8 | 0 | 1,0 × 105 |
7 | 0,2 | 8,0 × 104 | 1,5 × 103 |
8 | 0,2 | 1,3 × 103 | 1,8 × 103 |
9 | 0,3 | 9,3 × 103 | 1,4 × 103 |
10 | 0,7 | 1,5 × 103 | 3,8 × 104 |
11 | 0,3 | 0,4 × 103 | 1,6 × 103 |
0,2 | 0 | 6,2 × 105 | |
0,0 | 0 | 6,9 × 105 | |
12 | 0,2 | 0,5 × 103 | 6,1 × 103 |
13 | 0,2 | 2,2 × 104 | 8,1 × 104 |
14 | 0,6 | 0 | 9,9 × 103 |
15 | 0,2 | 6,0 × 103 | 6,5 × 105 |
16 | 0,2 | 6,2 × 103 | 2,9 × 105 |
17 | 5,9 | 0 | 1,0 × 103 |
18 | 0,4 | 0 | 1,6 × 103 |
Выявлена средняя сила связи между наличием в биологической жидкости ДНК каждого из вирусов и присутствием субпопуляции CD56+CD19+dim лимфоцитов в периферической крови (значения χ2 при факторе риска «наличие ДНК ВЭБ» — 14,1, p < 0,001; при факторе риска «наличие ДНК ЦМВ» — 22,5, p < 0,001). Определена относительно сильная сила связи между выявлением в биологической жидкости ДНК обоих вирусов и присутствием субпопуляции CD56+CD19+dim лимфоцитов в периферической крови (значение χ2 37,6, p < 0,001).
Относительное количество NK-лимфоцитов с коэкспрессией CD19 в крови снижается при отсутствии репликативной активности ЦМВ
Ранее мы описывали результаты многолетних наблюдений за пациенткой, в крови которой субпопуляция CD56+CD19+dim была определена при втором и последующих обследованиях, совершавшихся в среднем с полугодовыми интервалами [3]. Субпопуляция сохранялась на протяжении шести лет, изменяясь от 0,3% лимфоцитов при втором визите до 0,9% во время третьего, далее снижаясь до 0,2% к концу наблюдений. Отсутствие анамнестических данных и результатов дополнительных лабораторных исследований не позволило связать появление в периферии субпопуляции CD19+ NK-клеток с наличием заболевания. В ходе текущего исследования на протяжении нескольких лет наблюдали двух пациентов с субпопуляцией CD56+CD19+dim в крови (пациенты 4 и 11 в табл. 1). При первом обследовании в слюне обоих лиц была определена ДНК ЦМВ и ВЭБ и максимальное количество CD56+CD19+dim NK-лимфоцитов в периферической крови. При повторных наблюдениях сохранялась персистенция ВЭБ при отсутствии ЦМВ. Вместе с этим в крови снижалось относительное количество CD19+ NK-клеток (рис. 3).
Рисунок 3. Динамика изменения относительного количества CD56+CD19+dim NK-лимфоцитов в крови при различном содержании вирусных ДНК в слюне пациентов 4 (А) и 11 (Б)
Figure 3. Dynamics of changes in the relative number of CD56+CD19+dim NK lymphocytes in the blood with different levels of viral DNA in the saliva of patients 4 (A) and 11 (B)
Максимальное относительное количество CD56+CD19+dim лимфоцитов в образцах крови обоих пациентов наблюдали при активной репликации обоих вирусов. В случае отсутствия в слюне ДНК цитомегаловируса при сохранении репликации ВЭБ доля CD19+ NK-лимфоцитов снижалась у обоих пациентов, в последнем случае при исходно малом объеме субпопуляции до значений ниже чувствительности исследования при наборе 5000 событий в лимфоцитарном регионе (рис. 3Б).
Среди лиц с активной репликацией ЦМВ и ВЭБ субпопуляция NK-лимфоцитов с коэкспрессией CD19 не отмечается у пациентов со скомпрометированным гуморальным иммунным ответом
Нами было показано, что высокая вероятность появления в периферической крови субпопуляции CD56+CD19+dim лимфоцитов и ее максимальная численность связана с активной репликацией обоих вирусов. Тем не менее в нашем исследовании далеко не у всех лиц с клиническими и лабораторными признаками сочетанной герпетической инфекции была определена интересующая нас субпопуляция клеток — среди 37 человек с сочетанной репликацией вирусов субпопуляция CD19+ NK-лимфоцитов в крови отмечалась только у 12 пациентов (32%). Следовательно, наряду с текущей или относительно недавней ЦМВ-инфекцией активная репликация вируса Эпштейна–Барр является необходимым, но не достаточным условием появления/сохранения в периферической крови этой субпопуляции NK-клеток.
Для поиска возможной причины наличия или отсутствия в периферической крови пациентов субпопуляции CD56+CD19+dim лимфоцитов были проанализированы анамнестические данные (возраст, длительность течения герпетических инфекций, сопутствующая патология) и концентрация в сыворотке крови общих иммуноглобулинов классов A, M, G как характеристика интегрального гуморального иммунного ответа. В медицинской информационной системе необходимые сведения имелись у 24 человек. В группу 1 вошли лица, в крови которых была определена целевая популяция клеток (n = 12), в группу 2 — без таковой (n = 12). Пациенты первой группы были моложе лиц второй группы (28,2±11,6 лет vs 47,1±18,9 лет, p < 0,05). Статистическое сравнение длительности инфекционных заболеваний между группами не проводили ввиду ее приблизительной оценки. Тем не менее сложилось впечатление о более длительном среднем стаже заболевания ВЭБ у лиц группы 1 (4,5 года против 2,3 лет) при сопоставимом среднем стаже заболевания ЦМВ (около 3,3 лет в обеих группах).
В сыворотках всех пациентов группы 1 были определены специфические высокоавидные IgG антитела к ЦМВ. Среди пациентов группы 2 у двоих имела место первичная ЦМВ-инфекция (выявлены специфические IgM и низкоавидные IgG), специфические высокоавидные IgG антитела к ЦМВ определены у 10 пациентов.
Анамнестические данные и результаты определения общих иммуноглобулинов классов A, M и G в сыворотке пациентов групп 1 и 2 представлены в таблицах 2 и 3 соответственно.
Таблица 2. Анамнестические данные и концентрация общих иммуноглобулинов пациентов группы 1
Table 2. Anamnestic data and concentration of total immunoglobulins of patients in group 1
№ | Пол Sex | Возраст, лет Age, years | Анамнестические данные согласно медицинской документации Anamnestic data from medical records | IgA, г/л IgA, g/l | IgM, г/л IgM, g/l | IgG, г/л IgG, g/l |
1 | М M | 31 | Нисходящая частичная атрофия зрительного нерва обоих глаз Наследственная оптическая нейропатия Лебера Descending partial atrophy of the optic nerve of both eyes Leber’s optic neuropathy | 1,2 | 1,3 | 6,1* |
2 | Ж F | 28 | Синдром Гийена-Барре Поллиноз Риноконъюнктивит Guillain–Barré syndrome Hay fever Rhinoconjunctivitis | 1,6 | 1,7 | 12,89 |
3 | Ж F | 33 | Энцефалопатия сосудистого генеза Нейросенсорная тугоухость легкая форма Vascular encephalopathy Sensorineural hearing loss mild form | 2,1 | 1,4 | 9,4 |
4 | М M | 3 | Нарушения, вовлекающие иммунные механизмы, неуточненные Disorders involving immune mechanisms, unspecified | 0,8 | 1,2 | 8,29 |
5 | М M | 45 | Хронический билиарнозависимый панкреатит в фазе обострения Хронический эрозивный антральный гастрит, обострение Exacerbation of chronic pancreatitis Exacerbation of chronic erosive gastritis | 2,1 | 0,7 | 7,7* |
6 | Ж F | 29 | Хронический пангастрит НP- с эрозиями антрального отдела, обострение Хронический дуоденит обострение Exacerbation of chronic erosive antral gastritis HP- Exacerbation of chronic duodenitis | 1,9 | 1,2 | 11,7 |
7 | М M | 2,5 | Вторичные нарушения параметров иммунитета на фоне вирусной инфекции Secondary immune disorders due to viral infection | 0,7 | 0,6* | 9,5 |
8 | Ж F | 27 | Апластическая анемия, тяжелая форма Пароксизмальная ночная гемоглобинурия Severe aplastic anemia Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria | 2,0 | 0,92 | 14,12 |
9 | М M | 10 | Воспалительный процесс вирусной этиологии, вялотекущий Поллиноз Бытовая сенсибилизация Viral infection Hay fever Sensitization to household allergens | 1,4 | 1,0 | 15,8 |
10 | М M | 40 | Нарушения, вовлекающие иммунные механизмы, неуточненные Disorders involving immune mechanisms, unspecified | 1,6 | 0,8 | 11,52 |
11 | Ж F | 32 | Нарушения, вовлекающие иммунные механизмы, неуточненные Disorders involving immune mechanisms, unspecified | 1,2 | 1,1 | 9,9 |
12 | Ж F | 58 | Кандидозный эзофагит Candidal esophagitis | 1,5 | 2,7** | 10,5 |
Примечание. * — результат ниже возрастной нормы; ** — результат выше возрастной нормы.
Note. * — the result is below the age norm; ** — the result is above the age norm.
Таблица 3. Анамнестические данные и концентрация общих иммуноглобулинов у пациентов группы 2
Table 3. Anamnestic data and concentration of total immunoglobulins in patients of group 2
№ | Пол Sex | Возраст, лет Age, years | Анамнестические данные согласно медицинской документации Anamnestic data from medical records | IgA, г/л | IgM, г/л | IgG, г/л |
1 | Ж F | 8 | Нарушения, вовлекающие иммунные механизмы, неуточненные Disorders involving immune mechanisms, unspecified | 1,4 | 1,7 | 15,0 |
2 | Ж F | 57 | ВИЧ-инфекция, прогрессирование без антиретровирусной терапии HIV infection, progression without antiretroviral therapy | 6,6** | 0,7 | 8,7 |
3 | М M | 65 | Атопическая бронхиальная астма Вторичное иммунодефицитное состояние Atopic bronchial asthma Secondary immunodeficiency | 4,0 | 1,0 | 13,25 |
4 | Ж F | 3 | Иммунодефицит с преимущественным дефектом антител неуточненный Antibody immunodeficiency, unspecified | < 0,06* | 1,0 | 5,71* |
5 | М M | 36 | ВИЧ-инфекция 4В стадия, прогрессирование без антиретровирусной терапии HIV infection stage 4B, progression without antiretroviral therapy | 2,1 | 1,4 | 23,2** |
6 | М M | 70 | В-клеточная лимфома ЦНС CNS B-cell lymphoma | 0,64* | 0,35* | 12,23 |
7 | М M | 81 | В-клеточная лимфома из малых лимфоцитов Small B-cell lymphoma | < 0,06* | < 0,25* | 5,9* |
8 | Ж F | 55 | Нарушения, вовлекающие иммунные механизмы, неуточненные Disorders involving immune mechanisms, unspecified | 1,3 | 1,5 | 8,1 |
9 | Ж F | 58 | Первичная ЦМВ-инфекция ВПЧ-инфекция Вторичное иммунодефицитное состояние Primary CMV infection HPV infection Secondary immunodeficiency | 0,8* | 1,7 | 8,6 |
10 | М M | 39 | Нарушения, вовлекающие иммунные механизмы, неуточненные Бронхиальная астма, неаллергическая Disorders involving immune mechanisms, unspecified Nonatopic bronchial asthma | 1,44 | 0,41* | 5,6* |
11 | М M | 57 | Гипертоническая болезнь II стадии Дисметаболическая кардиомиопатия Stage II hypertension Dysmetabolic cardiomyopathy | 1,33 | 1,87 | 6,05* |
12 | Ж F | 36 | Первичная ЦМВ-инфекция Вторичное иммунодефицитное состояние Аутоиммунный тиреоидит Primary CMV infection Secondary immunodeficiency Autoimmune thyroiditis | 0,8* | 1,0 | 8,6 |
Примечание. * — результат ниже возрастной нормы; ** — результат выше возрастной нормы.
Note. * — the result is below the age norm; ** — the result is above the age norm.
У троих пациентов (25%) группы 1 отмечено снижение содержания в сыворотке общих иммуноглобулинов какого-либо класса, из них в двух случаях выявлено снижение IgG.
Снижение концентрации иммуноглобулинов какого-либо класса в сыворотке пациентов группы 2 ниже возрастной нормы отмечено в два раза чаще — в 58% случаев (n = 7) против 25% в группе 1, из них в четырех случаях — снижение IgG. Анализ анамнестических данных пациентов второй группы выявил у значительной части лиц наличие заболеваний, приводящих к нарушению гуморального иммунного ответа. Среди них прогрессирующая ВИЧ-инфекция без антиретровирусной терапии, хронические В-клеточные лимфопролиферативные заболевания, иммунодефицит с преимущественным дефектом продукции антител, вторичное иммунодефицитное состояние. Следовательно, состоятельность гуморального звена иммунитета можно рассматривать как один из факторов, влияющих на возможность появления в периферической крови субпопуляции CD56+CD19+dim лимфоцитов.
Обсуждение
В нашем исследовании показана взаимосвязь появления в периферической крови субпопуляции CD19+ NK-клеток с наличием ЦМВ-инфекции текущей или в анамнезе. У большинства пациентов с CD19+ NK-лимфоцитами в крови репликация ЦМВ в биологических жидкостях имела место на момент обследования, у некоторых отмечалась ранее. Нами выявлено, что помимо ЦМВ-инфекции для присутствия в крови CD56+CD19+dim лимфоцитов необходима активная репликация ВЭБ.
Следует отметить, что у всех пациентов с субпопуляцией CD19+ NK-клеток в крови ВЭБ-инфекция имела продолжительное хроническое течение — длительность заболевания на момент обследования составляла не менее 7 месяцев, в среднем около двух лет. Популяция NK-клеток со слабой экспрессией CD19 в нашем исследовании выявлена только у пациентов с реактивацией хронической ВЭБ-инфекции, достигая частоты встречаемости 32% среди лиц с активной репликацией обоих вирусов. Динамическое наблюдение за некоторыми пациентами показало возможность многолетней персистенции CD19+ NK-лимфоцитов в крови с постепенным снижением численности при отсутствии репликативной активности ЦМВ. Отсутствие CD56+CD19+dim лимфоцитов у лиц с активной сочетанной герпетической инфекцией в ряде случаев было связано с нарушением гуморального иммунного ответа.
Ранее проведенное нами фенотипирование субпопуляции NK-клеток с коэкспрессией CD19 позволило отнести эти клетки к адаптивным NK-лимфоцитом [3], появление которых связано с цитомегаловирусной инфекцией. Фенотип этих клеток чаще всего описывают как NKG2C+/–CD57+brightCD2+brightCD7+dim CD16+dimCD38+dimFcεR1γ– [13]. Первая встреча с цитомегаловирусом происходит, как правило, в детском возрасте, поражая от 60 до 100% взрослого населения планеты. Среди подростков и лиц молодого возраста отмечается вторая волна инфицирования ЦМВ [2]. В России среди подростков 14–16 лет число серопозитивных лиц составляет в среднем 73% [1]. Согласно литературным данным, популяция адаптивных NK-лимфоцитов увеличивается в остром периоде первичной ЦМВ-инфекции, достигает максимальных значений к концу второй недели после инфицирования и постепенно снижается к 20-му дню заболевания [27]. В дальнейшем эти клетки персистируют в течение нескольких лет, изменяя численность в зависимости от активности ЦМВ [20]. Таким образом, максимальное количество адаптивных NK-лимфоцитов отмечается у лиц детского и молодого возраста с постепенным снижением популяции при отсутствии репликации вируса.
Помимо увеличенной продолжительности жизни, адаптивные NK-клетки обладают усиленной способностью к участию в реакциях антителозависимой клеточной цитотоксичности [24, 31]. Функциональные особенности адаптивных NK-лимфоцитов связаны с уникальным фенотипом, в частности, с высокой экспрессией костимуляторной молекулы CD2 и проведением сигнала от CD16 (FcγRIIIa) с помощью CD3ζ. Как молекула адгезии CD2 участвует в стабилизации межклеточных контактов для формирования иммунного синапса, взаимодействуя с CD58 на антигенпрезентирующих клетках, в том числе на В-лимфоцитах [23]. Кроме того, эта молекула служит связующим звеном между CD16 и актиновым цитоскелетом, облегчая перемещение молекул в иммунологическом синапсе NK-клеток [5]. Только для субпопуляции адаптивных NK-лимфоцитов показана возможность тесной взаимосвязи между молекулами CD2 и FcγRIIIa: CD16 стабилизирует экспрессию CD2, обе молекулы совместно локализуются в иммунном синапсе, что позволяет CD2 подключиться к сигнальному пути от CD16. Это приводит к значительно более высоким уровням фосфорилирования всех сигнальных молекул, снижая порог активации адаптивных NK-лимфоцитов для реализации эффективной АЗКЦ. Интересно, что костимулирующий эффект CD2 в реакциях АЗКЦ зависит от концентрации специфических IgG к антигенам клетки-мишени: при низких титрах IgG он значительно выше [18].
Механизмы, позволяющие NK-лимфоцитам контролировать ВЭБ на разных этапах инфекционного процесса, изучались с использованием различных экспериментальных моделей группой исследователей под руководством M. Lopez-Montañés. Было показано, что в зависимости от степени поражения В-лимфоцита вирусом его взаимодействие с NK-клеткой может приводить не только к лизису инфицированного В-лимфоцита, но и к сохранению жизнеспособности неинфицированной В-клетки, опсонизированной вирусной частицей [4, 21]. В последнем случае элиминация вируса осуществлялась путем FcγRIIIa-зависимого трогоцитоза фрагмента мембраны В-клетки с прикрепленной к CD21 частицей ВЭБ в присутствии специфических IgG. Появление на поверхности NK-лимфоцита В-клеточных молекул CD19, CD20 и CD21 в экспериментах in vitro было следствием процесса трогоцитоза. Авторами было высказано предположение о том, что CD16-зависимый трогоцитоз может являться альтернативным механизмом элиминации вирусов. Таким образом, наиболее вероятным объяснением появления экспрессии В-клеточных антигенов на поверхности NK-лимфоцитов периферической крови пациентов с острой ВЭБ-инфекцией является FcγRIIIa-зависимый трогоцитоз фрагмента мембраны В-клетки.
Трогоцитоз — это активный кальций-зависимый рецептор-индуцированный контактно-опосредованный перенос участков мембраны, содержащих как молекулы, играющие роль в межклеточных взаимодействиях, так и соседние молекулы [10, 14]. Возможность трогоцитоза обеспечивается выполнением ряда условий, что предопределяет относительную редкость его детекции. Для его осуществления необходимо формирование иммунного синапса между клеткой-реципиентом и клеткой-донором c высокоаффинной связью в центральной зоне супрамолекулярного активационного кластера, а также с высокой плотностью экспрессии костимуляторных молекул и молекул адгезии в его периферической зоне [22]. Таким образом, для трогоцитоза NK-клеткой фрагмента мембраны В-лимфоцита должно быть обеспечено устойчивое взаимодействие на всех этапах цепи от В-клетки, опсонизированной вирусом, до NK-лимфоцита: CD21 — gp350 ВЭБ — специфические IgG к gp350 — CD16a (FcγRIIIa) (рис. 4).
Рисунок 4. Взаимодействие В-лимфоцита и NK-клетки при ВЭБ-инфекции. Рисунок создан с помощью программного обеспечения BioRender (https://biorender.com)
Figure 4. Interaction of B-lymphocyte and NK-cell during EBV infection. Image created using software BioRender (https://biorender.com)
Это условие может быть обеспечено присутствием в крови высокоаффинных IgG к поверхностному гликопротеину gp350 вируса Эпштейна–Барр, высоким сродством FcγRIIIa на NK-клетках к Fc-домену специфических IgG и повышенной экспрессией адгезионной молекулы CD2, что показано для адаптивных NK-лимфоцитов.
Таблица 4. Возможный исход взаимодействия NK- и В-клеток при инфекции вирусом Эпштейна–Барр
Table 4. Possible outcome of the interaction of NK and B cells during Epstein–Barr virus infection
В-клетка B cell | |||||||
Инфицированная Infected | Неинфицированная Intact | ||||||
Литическая фаза Lytic phase | Латентная фаза Latent phase | ||||||
Нет опсонизации вирусной частицей No opsonization by viral particle | Есть опсонизация вирусной частицей There is opsonization by a viral particle | Есть опсонизация вирусной частицей There is opsonization by a viral particle | Нет опсонизации вирусной частицей No opsonization by viral particle | ||||
Экспрессия на мембране В-клетки gp350 Expression of gp350 on B cell membrane | + | – | + | + | – | ||
Экспрессия на мембране В-клетки стресс-индуцированных молекул Expression of stress-induced molecules on the B cell membrane | + | – | – | – | – | ||
IgG к белкам gp350 IgG to gp350 proteins | +/– | +/– | Низкий титр Low titer | Высокий титр High titer | Низкий титр Low titer | Высокий титр High titer | +/– |
Взаимодействие NK- и В-клеток Interaction between NK and B cells | Стабилизация контакта CD2/CD58 Stabilization of the CD2/CD58 bond | Нет No | Стабилизация контакта CD2/CD58 Stabilization of the CD2/CD58 bond | Нет No | |||
Активация NKG2D; синтез IFNγ, перфоринов, гранзимов; усиление сигнала с участием CD16, NKp46, 2B4 NKG2D activation; synthesis of IFNγ, perforins, granzymes; signal amplification involving CD16, NKp46, 2B4 | Выраженное взаимодействие CD2/CD16 Significant interaction CD2/CD16 | Слабое взаимодействие CD2/CD16 Weak interaction CD2/CD16 | Выраженное взаимодействие CD2/CD16 Significant interaction CD2/CD16 | Слабое взаимодействие CD2/CD16 Weak interaction CD2/CD16 | |||
В-клетка B cell | |||||||
Инфицированная Infected | Неинфицированная Intact | ||||||
Литическая фаза Lytic phase | Латентная фаза Latent phase | ||||||
Результат Result | Лизис инфицированной В-клетки различными механизмами Lysis of infected B cells by various mechanisms | Сохранение инфицированной В-клетки Persistence of infected B- cell | Лизис инфицированной В-клетки АЗКЦ Lysis of infected B-cell by ADCC | Сохранение инфицированной В-клетки Трогоцитоз вирусной частицы Persistence of infected B-cell Trogocytosis of a viral particle | Лизис интактной В-клетки АЗКЦ Lysis of intact B- cell by ADCC | Сохранение интактной В-клетки Трогоцитоз вирусной частицы Preservation of intact B-cell Trogocytosis of viral particle | Сохранение интактной В-клетки Preservation of intact B-cell |
Гликопротеин gp350 вируса Эпштейна–Барр, опосредующий проникновение вирусной частицы в В-лимфоцит через связывание с CD21, является основной мишенью для нейтрализующих антител [29]. Результаты исследований последних лет свидетельствуют о том, что специфические высокоаффинные нейтрализующие IgG антитела к поверхностным антигенам вирусов являются, как правило, афукозилированными, обладая сродством к FcγRIIIa, в десятки раз превышающим сродство фукозилированных IgG [8, 16]. Высокое сродство анти-gp350 IgG к CD16 — один из факторов, обеспечивающих формирование устойчивой связи между клеткой-эффектором и мишенью, что способствует как эффективной АЗКЦ, так и трогоцитозу даже при связывании с низкоаффинным рецептором к иммуноглобулину G, каким является FcγRIIIa.
Титры нейтрализующих IgG к gp350 увеличиваются в течение нескольких месяцев после первичного заражения и достигают пиковых значений в среднем к 2,5 годам [6]. По-видимому, длительность хронической ВЭБ-инфекции немаловажна для возможности трогоцитоза, поскольку определяет концентрацию высокоаффинных нейтрализующих IgG к gp350. При низких титрах IgG костимулирующий эффект CD2 для проведения сигнала от CD16 значительно выше [18] и способствует развитию АЗКЦ и гибели В-клетки, что обеспечивает контроль активной вирусной инфекции при незначительном содержании антител. Вероятно, при высоких концентрациях IgG к gp350 выраженная экспрессия молекул CD2 на адаптивных NK-клетках необходима только для формирования устойчивого межклеточного контакта, требующегося для осуществления АЗКЦ и/или трогоцитоза. При этом практически нет усиления сигнала от CD16 с участием CD2, что затрудняет развитие АЗКЦ, но не мешает трогоцитозу. Результаты исследования Alari-Pahissa E. и соавт. (2021) подтверждают предположение о минимальном вовлечении CD2 в межклеточное взаимодействие при FcγRIIIa-зависимом трогоцитозе В-лимфоцитов [4].
Распознавание NK-клеткой В-лимфоцита и итог межклеточного взаимодействия при ВЭБ-инфекции зависит от спектра молекул на поверхности клетки-эффектора и клетки-мишени, а также наличия и концентрации антител к белкам ВЭБ. В случае первичной ВЭБ-инфекции связывание gp350 вирусной частицы с CD21 на В-лимфоците приводит к его инфицированию. При активной репликации ВЭБ в литической фазе жизненного цикла вируса в В-клетке индуцируется синтез вирусных белков и стресс-индуцированных молекул ULBP1, которые являются лигандами для активирующего рецептора NK-клеток NKG2D, с дальнейшей реализацией программы гибели инфицированной клетки-мишени с помощью различных механизмов — естественной цитотоксичности, синтеза цитокинов, антителозависимой клеточной цитотоксичности [30]. В случае хронической ВЭБ-инфекции наличие нейтрализующих антител сдерживает инфекционный процесс, позволяя адаптивным NK-лимфоцитам распознавать gp350+ В-клетки, опсонизированные вирусными частицами, но в остальном сохраняющие нормальную экспрессию поверхностных молекул. Итог такого взаимодействия зависит от концентрации высокоаффинных IgG к gp350: при высоком содержании более вероятен трогоцитоз фрагмента мембраны В-лимфоцита вместе с вирусной частицей с сохранением жизнеспособности В-клетки, при низком содержании — лизис В-клетки через развитие реакций АЗКЦ. Поскольку сведения о различии в результатах взаимодействия NK-клетки и В-лимфоцита в зависимости от наличия нейтрализующих антител и степени вовлечения В-клетки были получены в экспериментальных условиях в серии работ M. Lopez-Montañés, то остается открытым вопрос: касается ли это только интактных gp350+ В-лимфоцитов или также и инфицированных В-клеток с ВЭБ в латентной фазе. Во втором случае сохранение жизнеспособности инфицированной В-клетки будет способствовать персистенции вируса. Отсутствие экспрессии вирусных, а также стресс-индуцированных белков на мембране В-лимфоцита препятствует его распознаванию NK-клеткой, как это отмечается для инфицированных В-лимфоцитов в латентной фазе ВЭБ, или интактных В-клеток (табл. 4).
Следовательно, можно предположить, что на ранних сроках ВЭБ-инфекции или при недостаточном синтезе специфических IgG в результате нарушения гуморального иммунного ответа более вероятно участие адаптивных NK-клеток в противовирусном иммунитете с развитием АЗКЦ и лизисом интактных В-лимфоцитов, опсонизированных gp350+ вирусными частицами. Возможно, одной из причин отсутствия субпопуляции CD19+ NK-клеток как маркера трогоцитоза в крови пациентов с сочетанной герпетической инфекцией из второй группы является низкий титр нейтрализующих IgG к gp350 или их отсутствие. Это может быть связано как с нарушениями в гуморальном звене иммунитета, обусловленными сопутствующими заболеваниями пациентов, так и с небольшой длительностью хронической ВЭБ-инфекции. При высоком титре IgG к gp350 возможен процесс трогоцитоза, направленный на элиминацию ВЭБ с сохранением жизнеспособности В-лимфоцитов, что показано у пациентов группы 1, у которых в периферической крови была определена популяция адаптивных NK-клеток с коэкспрессией CD19. При этом в случае сохранения жизнеспособности В-лимфоцита с ВЭБ в латентной фазе, опсонизированного gp350+ вирусной частицей, трогоцитоз способствует персистенции вируса.
Особый интерес к изучению механизмов трогоцитоза появился в связи с широким использованием биологической терапии для лечения пациентов с онкологическими и аутоиммунными заболеваниями. Известно, что трогоцитоз значительно снижает эффективность ритуксимаба, даратумумаба и других терапевтических моноклональных антител [22, 28], способствуя сохранению опухолевого клона. Замечено, что процессы трогоцитоза протекают тем активнее, чем выше концентрация используемых препаратов. И, напротив, изменение дозирования терапевтических МКАТ с длительным введением низких концентраций приводит к снижению трогоцитоза и эффективной элиминации опухолевых клеток [28]. Таким образом, преимущественный исход взаимодействия иммунных клеток-эффекторов и опухолевых клеток-мишеней зависит от соотношения количества антигена (например, CD20) к антителу (например, ритуксимаб). Вероятно, при противовирусном ответе имеют место сходные механизмы, когда при высокой концентрации специфических антител преобладают процессы трогоцитоза, тогда как низкая концентрация приводит к развитию АЗКЦ.
Одной из немаловажных функциональных особенностей адаптивных NK-лимфоцитов является индуцибельная экспрессии трансактиватора основного комплекса гистосовместимости (CIITA) и последующая HLA-DR-опосредованная презентации антигенов Т-лимфоцитам [12]. Повышение экспрессии HLA-DR отмечается при взаимодействии молекул CD2 и CD58 [25], а также при связывании CD16 с вирусными частицами, опсонизированными специфическими IgG [10]. Адаптивные NK способны осуществлять процессинг и презентацию вирусных белков некоторым популяциям Т-хелперов с цитотоксическим потенциалом [9]. В нашем предыдущем исследовании была отмечена вариабельная экспрессия HLA-DR на CD19+NK-лимфоцитах [3], причем увеличение экспрессии HLA-DR совпадало с ростом субпопуляции и клиническими обострениями ВЭБ-инфекции (данные не представлены). Не исключено, что CD16-опосредованный трогоцитоз опсонизированных частиц ВЭБ с поверхности В-клеток также может способствовать презентации вирусных антигенов специфическим Т-клеткам памяти и последующей эффективной элиминации вируса.
Некоторым ограничением нашего исследования явилось отсутствие данных о содержании специфических антител к gp350 вируса Эпштейна–Барр. Для рассмотрения возможных исходов взаимодействия NK-клетки и В-лимфоцита при этой инфекции в представленную нами схему включены данные о влиянии титра антител на возможность АЗКЦ и трогоцитоза из открытых литературных источников.
Заключение
В результате проведенного исследования выявлен ряд факторов, способствующих появлению в периферической крови субпопуляции CD56+CD19+dim NK-лимфоцитов, а именно относительно недавно перенесенная ЦМВ-инфекция, стимулирующая дифференцировку адаптивных NK-клеток; наличие хронической ВЭБ-инфекции со стажем заболевания, обеспечивающим высокий титр нейтрализующих антител к gp350 ВЭБ; наличие активной репликации ВЭБ на момент исследования; сохранный гуморальный иммунный ответ. Особенно высокое относительное количество CD56+CD19+dim NK-лимфоцитов наблюдалось при активной сочетанной герпетической инфекции (ВЭБ+ЦМВ).
Субпопуляция CD56+CD19+dim не была определена у лиц без ЦМВ-инфекции в анамнезе, при отсутствии активной репликации ВЭБ и у пациентов с заболеваниями, приводящими к нарушению гуморального иммунного ответа.
Появление в периферической крови CD56+CD19+dim NK-клеток является следствием участия адаптивных NK-лимфоцитов в противовирусном ответе и маркером трогоцитоза мембран В-лимфоцитов, связавших частицы ВЭБ.
Возможность присутствия в периферической крови субпопуляции NK-лимфоцитов с коэкспрессией CD19 необходимо учитывать при проведении исследований по фенотипированию В-лимфоцитов, поскольку ее наличие может приводить к некорректному подсчету В-клеток при использовании CD19 в качестве единственного линейного В-лимфоцитарного маркера или отсутствии в пробе антител к CD56 и некоторым другим NK-клеточным антигенам.
Об авторах
Анастасия Андреевна Калашникова
ФГБУ Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова МЧС России
Автор, ответственный за переписку.
Email: petkova_nas@mail.ru
к.б.н., старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела лабораторной диагностики научно-исследовательского центра
Россия, Санкт-ПетербургНаталия Владимировна Бычкова
ФГБУ НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова Минздрава России
Email: bnv19692007@yandex.ru
д.б.н., ведущий научный сотрудник лаборатории клинической иммунологии
Россия, МоскваИрина Анисимовна Ракитянская
СПбГБУЗ Городская поликлиника № 112
Email: tat-akyla@inbox.ru
д.м.н., профессор, клинический иммунолог, консультант отделения аллергологии-иммунологии и клинической трансфузиологии
Россия, Санкт-ПетербургСписок литературы
- Дубоносова Е.Ю., Намазова-Баранова Л.С., Вишнева Е.А., Маянский Н.А., Куличенко Т.В., Солошенко М.А. Распространенность цитомегаловирусной инфекции среди подростков в Российской Федерации: результаты одномоментного популяционного анализа серопревалентности // Педиатрическая фармакология. 2021. Т. 18, № 6. С. 451–459. [Dubonosova E.Y., Namazova-Baranova L.S., Vishneva E.A., Mayanskiy N.A., Kulichenko T.V., Soloshenko M.A. Cytomegalovirus infection in adolescents of Russian Federation: results of cross-sectional population analysis of seroprevalence. Pediatricheskaya farmakologiya = Pediatric Pharmacology, 2021, vol. 18, no. 6, pp. 451–459. (In Russ.)] doi: 10.15690/pf.v18i6.2297
- Жебрун А.Б., Куляшова Л.Б., Ермоленко К.Д., Закревская А.В. Распространенность герпесвирусных инфекций у детей и взрослых в С.-Петербурге по данным сероэпидемиологического исследования // Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. 2013. № 6. С. 30–36. [Zhebrun A.B., Kulyashova L.B., Ermolenko K.D., Zakrevskaya A.V. Spread of herpesvirus infections in children and adults in St. Petersburg according to seroepidemiologic study data. Zhurnal mikrobiologii, epidemiologii i immunobiologii = Journal of Microbiology, Epidemiology and Immunobiology, 2013, no. 6, pp. 30–36. (In Russ.)]
- Калашникова А.А., Бычкова Н.В. Минорная популяция NK-лимфоцитов с коэкспрессией CD19 // Медицинская иммунология. 2024. Т. 26, № 3. С. 513–522. [Kalashnikova A.A., Bychkova N.V. Minor population of NK lymphocytes with CD19 coexpression. Meditsinskaya Immunologiya = Medical Immunology (Russia), 2024, vol. 26, no. 3, pp. 513–522. (In Russ.)] doi: 10.15789/1563-0625-MPO-2920
- Alari-Pahissa E., Ataya M., Moraitis I., Campos-Ruiz M., Altadill M., Muntasell A., Moles A., López-Botet M. NK cells eliminate Epstein–Barr virus bound to B cells through a specific antibody-mediated uptake. PLoS Pathog., 2021, vol. 17, no. 8: e1009868. doi: 10.1371/journal.ppat.1009868
- Binder C., Cvetkovski F., Sellberg F., Berg S., Paternina Visbal H., Sachs D.H., Berglund E., Berglund D. CD2 Immunobiology. Front. Immunol., 2020, vol. 11: 1090. doi: 10.3389/fimmu.2020.01090
- Bu W., Hayes G.M., Liu H., Gemmell L., Schmeling D.O., Radecki P., Aguilar F., Burbelo P.D., Woo J., Balfour H.H. Jr., Cohen J.I. Kinetics of Epstein–Barr Virus (EBV) Neutralizing and Virus-Specific Antibodies after Primary Infection with EBV. Clin. Vaccine Immunol., 2016, vol. 23, no. 4, pp. 363–369. doi: 10.1128/CVI.00674-15
- Chatterjee G., Sriram H., Ghogale S., Deshpande N., Khanka T., Girase K., Verma S., Arolkar G., Dasgupta N., Narula G., Shetty D., Dhamne C., Moulik N.R., Rajpal S., Patkar N.V., Banavali S., Gujral S., Subramanian P.G., Tembhare P.R. Mimics and artefacts of measurable residual disease in a highly sensitive multicolour flow cytometry assay for B-lymphoblastic leukaemia/lymphoma: critical consideration for analysis of measurable residual disease. Br. J. Haematol., 2022, vol. 196, no. 2, pp. 374–379. doi: 10.1111/bjh.17801
- Coënon L., Villalba M. From CD16a Biology to Antibody-Dependent Cell-Mediated Cytotoxicity Improvement. Front. Immunol., 2022, vol. 13: 913215. doi: 10.3389/fimmu.2022.913215
- Costa-García M., Ataya M., Moraru M., Vilches C., López-Botet M., Muntasell A. Human Cytomegalovirus antigen presentation by HLA-DR+NKG2C+ adaptive NK cells specifically activates polyfunctional effector memory CD4+ T lymphocytes. Front. Immunol., 2019, vol. 10: 687. doi: 10.3389/fimmu.2019.00687
- Davis D.M. Intercellular transfer of cell-surface proteins is common and can affect many stages of an immune response. Nat. Rev. Immunol., 2007, vol. 7, no. 3, pp. 238–243. doi: 10.1038/nri2020
- Erdem G., Cua C.L., Basu A., Lee S., Leber A., Abraham R.S. Asymptomatic COVID-19 Reinfection in a Pediatric Patient with Heterotaxy Syndrome. Viral. Immunol., 2023, vol. 36, no. 2, pp. 144–148. doi: 10.1089/vim.2022.0131
- Erokhina S.A., Streltsova M.A., Kanevskiy M.L., Grechikhina M.V., Sapozhnikov A.M., Kovalenko E.I. HLA-DR-expressing NK cells: Effective killers suspected for antigen presentation. J. Leucoc. Biol., 2021, vol. 109, no. 2, pp. 327–337. doi: 10.1002/JLB.3RU0420-668RR
- Gao F., Zhou Z., Lin Y., Shu G., Yin G., Zhang T. Biology and Clinical Relevance of HCMV-Associated Adaptive NK Cells. Front. Immunol., 2022, vol. 13: 830396. doi: 10.3389/fimmu.2022.830396
- HoWangYin K.-Y.C., Edgardo D., LeMaoult J. Trogocytosis and NK Cells in Mouse and Man. Natural Killer Cells: Springer, 2010, pp. 109–123. doi: 10.1007/978-3-642-02309-5_5
- Korol C., Rossi J., Sanz M., Bernasconi A. NK cells expressing the B cell antigen CD19: Expanding the phenotypical characterization and the potential consequences from misinterpretation of this subset population. Cytometry B Clin. Cytom., 2015, vol. 88, no. 2, pp. 358–360. doi: 10.1002/cyto.b.21257
- Larsen M.D., de Graaf E.L., Sonneveld M.E., Plomp H.R., Nouta J., Hoepel W., Chen H.J., Linty F., Visser R., Brinkhaus M., Šuštić T., de Taeye S.W., Bentlage A.E.H., Toivonen S., Koeleman C.A.M., Sainio S., Kootstra N.A., Brouwer P.J.M., Geyer C.E., Derksen N.I.L., Wolbink G., de Winther M., Sanders R.W., van Gils M.J., de Bruin S., Vlaar A.P.J., Rispens T., den Dunnen J., Zaaijer H.L., Wuhrer M., Ellen van der Schoot C., Vidarsson G. Afucosylated IgG characterizes enveloped viral responses and correlates with COVID-19 severity. Science, 2021, vol. 371, no. 6532: eabc8378. doi: 10.1126/science.abc8378
- Li W., Morgan R., Nieder R., Truong S., Habeebu S.S.M., Ahmed A.A. Normal or reactive minor cell populations in bone marrow and peripheral blood mimic minimal residual leukemia by flow cytometry. Cytometry B Clin. Cytom., 2021, vol. 100, no. 5, pp. 531–608. doi: 10.1002/cyto.b.21968
- Liu L.L., Landskron J., Ask E.H., Enqvist M., Sohlberg E., Traherne J.A., Hammer Q., Goodridge J.P., Larsson S., Jayaraman J., Oei V.Y.S., Schaffer M., Taskén K., Ljunggren H.-G., Romagnani C., Trowsdale J., Malmberg K.-J., Béziat V. Critical Role of CD2 Co-stimulation in Adaptive Natural Killer Cell Responses Revealed in NKG2C-Deficient Humans. Cell Rep., 2016, vol. 15, no. 5, pp. 1088–1099. doi: 10.1016/j.celrep.2016.04.005
- Liu W., Scott J.M., Langguth E., Chang H., Park P.H., Kim S. FcRγ Gene editing reprograms conventional NK cells to display key features of adaptive human NK cells. iScience, 2020, vol. 23, no. 11: 101709. doi: 10.1016/j.isci.2020.101709
- Lopes-Verges S., Milush J.M., Schwartz B.S., Pando M.J., Jarioura J., York V.A., Houchins J.P., Miller S., Kang S.M., Norris P.J., Nixon D.F., Lanier L.L. Expansion of a unique CD57+NKG2C+ natural killer cell subset during acute human cytomegalovirus infection. Proc. Natl Acad. Sci. USA, 2011, vol. 108, no. 36, pp. 14725–14732. doi: 10.1073/pnas.1110900108
- Lopez-Montañés M., Alari-Pahissa E., Sintes J., Martínez-Rodríguez J.E., Muntasell A., López-Botet M. Antibody-dependent NK Cell activation differentially targets EBV-infected cells in lytic cycle and bystander B lymphocytes bound to viral antigen-containing particles. J. Immunol., 2017, vol. 199, no. 2, pp. 656–665. doi: 10.4049/jimmunol.1601574
- Miyake K., Karasuyama H. The Role of Trogocytosis in the Modulation of Immune Cell Functions. Cells, 2021, vol. 10, no. 5: 1255. doi: 10.3390/cells10051255
- Orange J.S., Harris K.E., Andzelm M.M., Valter M.M., Geha R.S., Strominger J.L. The mature activation natural killer cell immunologic synapse is formed in distinct stages. Proc. Natl Acad. Sci. USA, 2003, vol. 100, no. 24, pp. 14151–14156. doi: 10.1073/pnas.1835830100
- Quatrini L., Della Chiesa M., Sivori S., Mingari M.C., Pende D., Moretta L. Human NK cells, their receptors and function. Eur. J. Immunol., 2021, vol. 51, no. 7, pp. 1566–1579. doi: 10.1002/eji.202049028
- Rölle A., Halenius A., Ewen E.M., Cerwenka A., Hengel H., Momburg F. CD2–CD58 interactions are pivotal for the activation and function of adaptive natural killer cells in human cytomegalovirus infection. Eur. J. Immunol., 2016, vol. 46, no. 10, pp. 2420–2425. doi: 10.1002/eji.201646492
- Soma L., Wu D., Chen X., Edlefsen K., Fromm J.R., Wood B. Apparent CD19 expression by natural killers cells: a potential confounder for minimal residual disease detection by flow cytometry in B lymphoblastic leukemia. Cytometry B Clin. Cytom., 2015, vol. 88, no. 2, pp. 145–147. doi: 10.1002/cytob.21179
- Sun J.C., Beilke J.N., Lewis L.L. Adaptive immune feature of natural killer cells. Nature, 2009, vol. 457, no. 7229, pp. 557–561. doi: 10.1038/nature07665
- Taylor R.P., Lindorfer M.A. Fcγ-receptor-mediated trogocytosis impacts mAb-based therapies: historical precedence and recent developments. Blood, 2015, vol. 125, no. 5, pp. 762–766. doi: 10.1182/blood-2014-10-569244
- Weiss E.R., Alter G., Ogembo J.G., Henderson J.L., Tabak B., Bakiş Y., Somasundaran M., Garber M., Selin L., Luzuriaga K. High Epstein–Barr Virus Load and Genomic Diversity Are Associated with Generation of gp350-Specific Neutralizing Antibodies following Acute Infectious Mononucleosis. J. Virol., 2016, vol. 91, no. 1: e01562-16. doi: 10.1128/JVI.01562-16
- Wensveen F.M., Jelenčić V., Polić B. NKG2D: A Master Regulator of Immune Cell Responsiveness. Front. Immunol., 2018, vol. 9: 441. doi: 10.3389/fimmu.2018.00441
- Zhang T., Scott J.M., Hwang I., Kim S. Cutting Edge: Antibody-Dependent Memory-Like NK Cells Distinguished by Fcrgamma Deficiency. J. Immunol., 2013, vol. 190, no. 4, pp. 1402–1406. doi: 10.4049/jimmunol.1203034
Дополнительные файлы