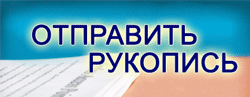Влияние вирусов и ретротранспозонов на генетическую нестабильность и старение организма
- Авторы: Лысакова Е.В.1, Бурак М.Ю.1, Навроцкий М.Б.1, Рыбцов С.А.1
-
Учреждения:
- АНОО ВО Научно-технологический университет «Сириус»
- Выпуск: Том 15, № 3 (2025)
- Страницы: 446-464
- Раздел: ОБЗОРЫ
- Дата подачи: 06.12.2024
- Дата принятия к публикации: 23.03.2025
- Дата публикации: 15.09.2025
- URL: https://iimmun.ru/iimm/article/view/17834
- DOI: https://doi.org/10.15789/2220-7619-IOV-17834
- ID: 17834
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Профилактическая медицина имеет многообещающий потенциал для отдаления и даже предотвращения развития опасных патологий, связанных с возрастом. Разработка новых методов вакцинации, новых профилактических препаратов, сердечно-сосудистых имплантов и методов ранней диагностики увеличила продолжительность жизни как в России, так и во всем мире. Повышенный риск развития ряда возраст-ассоциированных заболеваний может быть связан с нарастающей с возрастом генетической нестабильностью и, как результат, накоплением сенесцентных клеток во всех тканях организма. Такие клетки теряют функциональную активность, замещая нормальные клетки, и характеризуются секрецией провоспалительных цитокинов, создавая хронический воспалительный фон, характерный для старения. Возрастание генетической нестабильности связано с увеличением активности эндогенных вирусов и ретротранспозонов, а также с инфицированием рядом вирусов и бактерий, в результате чего происходит повреждение генетического аппарата клетки, нарушение транскрипции, трансляции и репарации. В обзоре обсуждаются новые подходы к профилактике, связанные с контролем генетической нестабильности и вирусных инфекций, повышающих риск возраст-ассоциированных патологий. Обсуждаются причины генетической нестабильности, механизмы контроля и сопутствующие патологии, включая развитие пролиферативных, нейродегенеративных заболеваний, старение клеток и их вклад в хроническое воспаление. В качестве перспективных профилактических средств подавления возраст-зависимой генетической нестабильности предлагаются противовирусные препараты и препараты, подавляющие активность эндогенных обратных транскриптаз. Хотя такие препараты уже используются в клинике для контроля вируса иммунодефицита человека, в настоящее время не существует препаратов, которые возможно принимать на постоянной основе без серьезных побочных эффектов. В связи с этим особенно важным является разработка препаратов нового поколения, которые могли бы использоваться как профилактические средства и отвечали бы требованиям эффективности и безопасности, обладая минимальными побочными эффектами. Как перспективное направление в профилактике возраст-ассоциированных патологий обсуждается разработка эффективных и безопасных субстанций, которые способны удалять сенесцентные клетки (сенолитики) либо блокировать секрецию провоспалительных факторов (сеноморфиков), поскольку эти провоспалительные факторы повышают риск развития пролиферативных, нейродегенеративных, аутоиммунных заболеваний. Другим возможным методом профилактики генетической нестабильности и накопления сенесцентных клеток является поиск высокоспецифичных мишеней и разработка методов иммунизации, позволяющих иммунной системе самостоятельно удалить клетки с повышенной генетической нестабильностью. Применяемые в совокупности, предлагаемые подходы способны продлить активный возраст и снизить нагрузку на систему здравоохранения.
Полный текст
Введение
Во всем мире и, в частности, в России, увеличивается доля населения, занимающегося активной трудовой деятельностью в пожилом возрасте. В связи повышением пенсионного возраста выросло число нетрудоспособных людей предпенсионного и пенсионного возраста, страдающих заболеваниями, ассоциированными с возрастом. Это увеличивает нагрузку на систему здравоохранения [2, 43].
В то же время трудоспособное население предпенсионного возраста обладает колоссальным рабочим опытом и является ценным человеческим ресурсом для обучения молодежи и обеспечения экономического роста России. По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат, 2024, https://www.fedstat.ru/indicator/62034, проверено 03.12.2024), количество пенсионеров в 2024 г. составляло 41 млн, из них работающих пенсионеров около 8 млн человек.
Работающие пенсионеры являются важным ресурсом для экономики страны в условиях нехватки квалифицированных трудовых ресурсов в России. Вместе с тем трудоспособные неработающие пенсионеры обеспечивают дополнительный доход домохозяйствам, занимаясь воспитанием детей и посильным домашним трудом, что вносит свой позитивный вклад в экономику. Таким образом, сохранение здоровья лиц пожилого возраста чрезвычайно актуально, особенно в связи с дороговизной обучения новых профессиональных кадров. Продление трудоспособного возраста населения, сохранения здоровья и активного долголетия является приоритетной задачей для экономического развития России и современной системы здравоохранения.
Старение организма ассоциировано с такими заболеваниями как ожирение, депрессия, потеря слуха, катаракта, остеоартрит, остеопороз, ревматоидный артрит, хроническая обструктивная болезнь легких, нейродегенеративные заболевания, деменция, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, хроническая ишемия головного мозга, фиброз и цирроз печени, диабет, онкологические заболевания [2, 43].
Существенный вклад в старение организма вносит также старение иммунной системы, в результате чего снижается эффективность противодействия организма инфекциям и увеличивается риск развития хронических инфекционных заболеваний и осложнений от инфекций, а также способность распознавать и удалять поврежденные и стареющие клетки [17, 21, 118].
На клеточном уровне старение организма подразумевает увеличение доли сенесцентных, то есть потерявших функциональную активность и имеющих воспалительный секреторный фенотип, клеток. Одной из причин возникновения сенесцентных клеток является повышенная генетическая нестабильность, которая обусловлена накоплением мутаций вследствие дефектов репарации, трансляции, снижения контроля активности эндогенных ревертаз (обратных траскриптаз, ОТ) — ключевого фермента, обеспечивающего транспозицию эндогенных ретротранспозонов и ретровирусов. Кроме того, негативный вклад в функцию генетического аппарата клетки вносят экзогенные хронические вирусные инфекции, вызывающие клеточный стресс и повреждение ДНК.
Достижения в профилактике возраст-зависимых заболеваний
В современных медицинских исследованиях обсуждается переход от непосредственного лечения заболевания и его последствий к профилактической модели здравоохранения как совокупности мер по снижению факторов риска, ранней диагностике и предотвращению осложнений. Понимание механизмов возрастных патологий может стать ключевым компонентом при разработке средств профилактики и методов предотвращения заболеваний.
Большим успехом превентивной медицины XX века стала разработка прививок, противовоспалительных средств и антибиотиков, а также препаратов, контролирующих артериальное давление и уровень сахара в крови. Это привело к увеличению продолжительности и качества жизни в развитых странах [135].
В начале XXI века большой прогресс в здравоохранении был достигнут благодаря разработке новых средств профилактики ожирения, пробиотиков, противовирусных препаратов, развитию диетологии, методов стентирования и протезирования и более эффективных методов иммунизации. Кроме того, в связи с развитием технологий генетического секвенирования, в настоящий момент наметились тенденции к созданию высокопроизводительных и мультиплексных диагностических методов. Как результат, были открыты сигнальные пути, связанные со старением, что выявило ряд механизмов клеточного старения, возраст-зависимого воспаления (inflammaging) и причин генетической нестабильности [3, 75, 125].
Генетическая нестабильность, то есть склонность генома претерпевать изменения последовательности ДНК в результате мутаций, считается главным признаком старения генетического аппарата клетки и организма в целом. Именно с увеличением количества мутаций и нарастанием генетической нестабильности связано увеличение риска возрастных заболеваний (в том числе опухолевых), анемий, пролиферативных заболеваний иммунной системы, клонального кроветворения и воспалительных нарушений [87, 96, 124, 130].
Экзогенные инфекционные факторы генетической нестабильности
К биогенным (экзогенным) факторам, влияющим на генетическую нестабильность и клеточное старение, относятся хронические торпидные инфекции, которые ослабляют иммунитет и ускоряют старение организма, а также повышенная активность эндогенных ретровирусов и ретротранспозонов [66, 70, 85, 88, 122].
Особую роль играют экзогенные ретровирусы — это РНК-содержащие вирусы, поражающие клетки млекопитающих, используя механизм обратной транскрипции. Ретровирусы кодируют собственную обратную транскриптазу, позволяющую им синтезировать ДНК на основе РНК-матрицы и встраиваться в геном. Известно несколько подсемейств ретровирусов, объединенных в три основные группы: онкоретровирусы, в том числе, Т-лимфотропный вирус человека (HTLV), провоцирующий развитие лейкемии [5, 87]; лентивирусы, в частности, ВИЧ-1 и ВИЧ-2, блокирующие адаптивный иммунный ответ и вызывающие иммунодефицит [45]; спумавирусы (пенистые вирусы). Хотя в случае спумавирусов не обнаружена связь с каким-либо заболеванием человека или животных, наблюдается их бессимптомное носительство, сопровождающееся изменениями цитоплазмы пораженных клеток, напоминающими образование пены. Все эти вирусы успешно встраиваются в геном млекопитающих и являются возможной причиной мутаций и снижения стабильности генома [16].
Кроме экзогенных ретровирусов, способных поражать организм человека и, встраиваясь в геном, вызывать генетическую нестабильность, существует ряд эндогенных обратных транскриптаз, кодируемых в последовательностях эндогенных ретровирусов и ретротранспозонов.
Эндогенные инфекционные факторы генетической нестабильности
Ретротранспозоны являются интегральной (эндогенной) частью генома человека и, как показали исследования, увеличивают свою активность с возрастом, вызывая локальные повышения генетической нестабильности в определенных клеточных популяциях [41]. В экспериментах на клеточных культурах эктопическая экспрессия ретроэлементов может вызывать гибель клетки путем некроптоза [53].
Выделяют 2 типа ретротранспозонов: длинные (LINEs, long interspersed nuclear elements/длинные вкрапленные ядерные элементы) и короткие (SINEs, short interspersed nuclear elements/короткие вкрапленные ядерные элементы), не содержащие длинных концевых повторов (LTR — long terminal repeats). LINEs содержат гены, кодирующие обратную транскриптазу (ОТ), РНК-связывающий белок, нуклеазу и Н-домен рибонуклеазы, в то время как SINEs не содержат гены, кодирующие ОТ, но также способны к самовоспроизведению в клетках эукариот, используя другие эндогенные ревертазы [46].
Геном человека содержит около 21% LINEs и около 13% SINEs, составляющих, таким образом, существенную его часть и, в случае увеличения степени их самокопирования, с возрастом способные негативно влиять на стабильность генома [46].
Хотя большинство копий LINE-1 элементов в геноме повреждено и не способно самовоспроизводиться, в геноме человека содержится до 100 полнофункциональных копий, в которые входят так называемые ORF0, ORF1 и ORF2 (открытые рамки считывания, open reading frames) — последовательности, кодирующие разные функциональные факторы LINE1-элементов, отвечающие за самокопирование. Причем ORF1 экспрессируются в 1000–10 000 раз более активно, чем ORF2 [107].
ORF1p — белок массой 40 kDa, обладающий РНК-связывающей и шаперонной активностью; ORF2p — белок массой 150 kDa, имеющий активность эндонуклеазы и обратной транскриптазы. При сборке белки ORF1p переплетаются по всей длине и ассоциируются по N-концевой спирали, образуя гомотример. Центральные мотивы узнавания РНК и С-концевые домены вместе образуют глубокие промежуточные щели, которые, вероятно, взаимодействуют с одноцепочечной РНК LINE-1. ORF1p и ORF2p связываются с РНК LINE-1, образуя рибонуклеопротеиновую частицу (RNP) [63].
Затем RPN перемещается в ядро, перенося туда РНК. В ядре РНК LINE-1 подвергается обратной транскрипции и вставляется в ядерную ДНК. ORF0 экспрессируется с промотора, находящегося в антисмысловой ориентации в 5'-нетранслируемой последовательности LINE-1, и, по-видимому, влияет на процесс ретротранспозиции, но ее точная функция неизвестна [9]. Белки LINE-1 также поддерживают ретротранспозицию некоторых неавтономных элементов, включая Alu и SVA и увеличивая таким образом генетическую нестабильность [36].
Активация ретротранспозонов нарушает целостность нуклеиновых кислот, что включает DDR сигнальный путь, приводящий к синтезу интерферона и формированию воспалительного фенотипа у клеток, запуская антивирусный иммунный ответ, что в некоторых случаях может вызывать аутоиммунные расстройства, так как ретротранспозоны являются частью генома всех клеток организма. С повышенной активностью ретротранспозонов связывают патогенез при ревматоидном артрите, системной красной волчанке и синдроме Шегрена [64, 83]. Например, повышенная активность LINE-1 (детектированного anti-ORF1p антителами) обнаружена у пациентов с системной красной волчанкой. При этом комбинация антиретровирусных нуклеозидных препаратов эмтрицитабина и тенофовир алафенамида фумарата снижала воспалительную реакцию нейтрофилов и симптомы заболевания [129].
Показано влияние активности транспозонов на важные гены, вовлеченные в патогенез воспалительных заболеваний. Так, транспозиция в 3'-нетранслируемый регион TNF, повышающая транскрипцию этого гена, была обнаружена у мышей с полиартритом и патологией клапанов сердца [65].
Эндогенные ретровирусы человека, HERV (Human endogenous retroviruses), являются значительной группой эндогенных вирусов. Встроенные в геном в наиболее поздний период развития млекопитающих, HERV составляют 8% генома человека. Семейство HERV типа K (HERV-K), HML-2 (HK2) содержит провирусы, активность которых является фактором риска развития социально значимых возраст-ассоциированных заболеваний [71]. Значительное количество копий HERV-K имеет открытые рамки считывания и активно транскрибируется при канцерогенезе [105]. Так, найдена ассоциация экспрессии HERV-K транскриптов с инвазивной карциномой протоков молочной железы [55] и с пролиферацией и инвазивностью меланомы через регуляцию белка K-Rec [120]. Увеличение количества антител против оболочки HERV-K ассоциировано с прогрессированием рака простаты [102]. В последнее время появляется понимание, что повышенная активность HERV-K ассоциирована с накоплением сенесцентных клеток и с системным воспалительным старением [144].
Подгруппа HML-2 из HERV является самой эволюционно молодой из эндогенных ретровирусов в геноме человека и активно транскрибируется. Аномальная экспрессия HML-2 во взрослых тканях обнаружена в различных типах раков [23, 38, 59] и ассоциирована с нейродегенеративными заболеваниями [30, 68]. Антигены оболочки этого вируса были предложены как перспективная цель для разработки лекарственных препаратов против широкой панели воспалительных и онкологических заболеваний [84].
Обнаружено, что часть HERV содержат обратные транскриптазы. Сравнительная оценка воздействия на HERV блокаторов ретровирусной репликации позволила отобрать эффективные ингибиторы [22].
Все эти данные показывают, что наиболее эволюционно молодые ретровирусы и ретроэлементы в случае выхода из-под генетического контроля вызывают наибольшую генетическую нестабильность.
Несмотря на ряд негативных эффектов ретротранспозонов и ретровирусов на организм при патогенезе ряда заболеваний, в ходе эволюции некоторые виды активности ретротранспозонов были адаптированы под нужды организма. Так, в ранних эмбрионах было обнаружено увеличение функциональной активности ОТ. В то время как эмбриональные клетки обладают высоким пролиферативным потенциалом, блокировка у мышиных эмбрионов микроинъекциями анти-ОТ-антител снижала пролиферацию и приводила к задержкам развития [116]. Кроме того, в связи с эволюционными приспособлениями млекопитающих, обнаружена функция эндогенных ревертаз в противовирусном иммунитете эмбриональных стволовых клеток. Так, при фармакологическом подавлении активности эндогенных ревертаз, увеличивалась репликация экзогенных вирусов в эмбриональных стволовых клетках. Оказалось, что ревертазы эндогенных транспозонов способны активироваться в ответ на стимуляцию IFNγ и синтезировать на матрице экзогенной вирусной РНК последовательности ДНК, формируя дуплекс ДНК/вирусная РНК, таким образом создавая условия для деградации РНК вируса с помощью РНКазы H1. Такой механизм ингибирует вирусную репликацию в эмбриональных стволовых клетках. При этом противовирусная активность эндогенных ревертаз не зависит от РНК-интерференции и внутренней экспрессии интерферон-стимулированных генов [138]. У человека значительное количество копий HERV-K имеет открытые рамки считывания и также активно транскрибируются в раннем эмбриогенезе [42], во время нейрональной дифференцировки в эмбрионе [133]. Более того, сверхэкспрессия вспомогательного белка Rec из HERV-K увеличивает на поверхности клеток уровень экспрессии IFITM1, что способствует подавлению вирусной инфекции [60, 119]. IFITM1 является одним из характерных генов сигнального пути интерферона. Другие гены этого сигнального пути — IFIT1, IFI6, MX1, OAS2 — также экспрессируются на пресенесцентных клетках и во время истощающей воспалительной пролиферации [86].
Также показано, что активность ретротранспозонов в гематопоэтических стволовых клетках (ГСК) во время беременности резко увеличивается, что вызывает усиление дифференцировки ГСК в сторону эритроидных предшественников и увеличение количества эритроцитов в циркуляции крови. Блокировка активности транспозонов ингибиторами обратных транскриптаз снижает эритропоэз у беременных мышей и при систематической потере крови. Такая активация транспозон-зависимого эритропоэза происходит через сигнальный каскад cGAS-STING, который связан с повреждением ДНК и синтезом интерферона [28, 91, 95].
Некоторые из генов транспозонов катализируют V(D)J-рекомбинацию [143], а также участвуют в слиянии трофобластов при развитии плаценты [34]. Белки транспозонов вовлечены в перенос мРНК от клетки к клетке. Это необходимо для обеспечения синаптической пластичности при формировании памяти [89].
Таким образом, отдельные регуляторные элементы и гены транспозонов могут участвовать в нормальном жизненном процессе, однако в нормальных условиях во взрослом организме их активность подавляется. Их активация во взрослом организме связана со многими заболеваниями, связанными с возрастом.
Генетический контроль эндогенной активности ОТ в клетке
Описано многочисленное семейство генов, сдерживающих генетическую нестабильность. С возрастом экспрессия многих из них снижается в ответ на внутриклеточные повреждения. Такие гены составляют до 35% генома человека, и большинство из них отвечают за контроль активности транспозонов. В норме экспрессия ретротранспозонов, кодирующих эндогенные ОТ, в дифференцированных клетках репрессирована и подавляется модификациями гистонов, метилированием регуляторных районов LINE-ДНК, экспрессией piRNA, siRNA и метилированием РНК N6-метиладенозина (m6A), что предотвращает пагубное воздействие этих элементов на геном хозяина, сдерживая активность ОТ, соответственно, подавляя перемещение мобильных элементов и нестабильность генома [24].
Наиболее обширный класс генов, контролирующих транспозабельную активность, составляют белки-регуляторы транскрипции семейства ZFP (Zinc-finger proteins — белки с цинковыми пальцами). ZFP содержат KRAB-домен (Krüppel-associated box, KZFP), отвечающий за белок-белковые взаимодействия. ZFP — обширный класс транскрипционных факторов, эволюционировавших совместно с транспозонами и эндогенными ретровирусами для контроля их активности [134]. ZFP преимущественно связываются с двуцепочечной РНК транспозонов и привлекают TRIM28, который взаимодействует, например, с метилтрансферазой H3K9 SETDB1. В результате таких событий происходит триметилирование гистонов, что подавляет открытие хроматина и репрессирует транскрипцию транспозонов. SETDB1, взаимодействуя с TRIM28, играет решающую роль в подавлении ERV типа I и типа II у мышей. Нокаут в гене Trim28 показал важность этого гена для сдерживания экспрессии ERV и нормальной транскрипции в эмбриональных стволовых клетках [109].
Целая серия белков, связанных с регуляцией хроматина, сдерживает экспрессию транспозонов и эндогенных ретровирусов. Мутации в генах Kat5, Ncor2, Prmt5, Rnf2, Rrp8, Setdb1 и Uhrf1, которые взаимодействуют в контекст-зависимой манере с ZFP, вызывали широкомасштабные изменения доступности хроматина и экспрессии мобильных элементов [47].
Существуют и другие негативные регуляторы ревертазной активности, например, сиртуины. Сиртуины (sirtuins, SIRT) большое семейство НАД-зависимых деацетилаз гистонов. Повышение экспрессии SIRT-1,-2,-3,-4,-6 ассоциированы с увеличением продолжительности жизни, что показано на нескольких моделях животных. Эти белки замедляют клеточное старение через регуляцию аутофагии. SIRT-1,-2,-6,-7 также сдерживают старение стволовых клеток через регуляцию их метаболизма и аутофагии [131]. SIRT6 участвует во многих процессах, включая репарацию ДНК, регуляцию активности теломеразы, аутофагию, метаболизм и эпигенетическое подавление экспрессии ОТ ретротранспозонов LINE-1. Сверхэкспрессия SIRT6 увеличила продолжительность жизни самцов мышей. Авторы предположили, что такое увеличение связано с эффективным подавлением элементов LINE-1 и со снижением воспаления [12, 58]. В настоящее время перспективным направлением является разработка препаратов, увеличивающих активность негативных эпигенетических ингибиторов ревертазной активности SIRT6 и SIRT7, которая может быть полезной для превентивной медицины и для продления здорового долголетия. Вместе с тем влияние сиртуинов на долголетие остается дискуссионным вопросом требует дальнейшего изучения [13].
Значительный вклад в нестабильность генома при старении также вносит нестабильность рибосомальной ДНК (рДНК). Например, было показано, что с возрастом в повторах рДНК наблюдается повышенный мутагенез, что приводит впоследствии к агрегации белков и считается критическим фактором старения клеток. Как оказалось, стабильность повторов рДНК зависит от работы белка ATXN2 (ортолог в дрожжах Pbp1). ATXN2 поддерживает генетическую стабильность клеток и увеличивает продолжительность жизни при эктопической экспрессии, подавляя формирование гибридов РНК–ДНК и таким образом стабилизируя повторы рДНК. Мутация в гене приводит к нарушению стабильности повторов рДНК, однако полностью блокирует транспозицию мобильных элементов [88].
Нокаут незаменимого для циркадных ритмов гена BMAL1 (также известного как ARNTL, сокр. от англ. Aryl hydrocarbon receptor nuclear translocator-like protein 1) ускоряет старение и, одновременно с этим, способствует активации транспозабельной активности в клетках человека и приматов. Таким образом, кроме участия в регуляции циркадных ритмов, BMAL1 участвует в стабилизации гетерохроматина и предотвращении активации LINE1, способных стимулировать сенесцентность в клетках приматов и человека [72].
В настоящее время существует несколько принципиальных подходов, которые в перспективе могут стать ключевыми в борьбе с нарастающей с возрастом генетической нестабильностью в клетках организма.
Ингибиторы обратных траскриптаз
Одним из подходов, позволяющих снизить вероятность перемещения ретротранспозонов по геному, является создание препаратов — ингибиторов ревертаз. Такие препараты в настоящее время используются для лечения вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Обоснование применения ингибиторов ОТ против ретровирусов состоит в том, что активность ретротранспозонов и ретровирусов полностью зависит от эндогенной ОТ-активности, которая позволяет генетическому материалу вируса встраиваться в геном эукариот.
Препараты, блокирующие ревертазы, подразделяются на несколько основных типов: нуклеозидные (например, зидовудин или ламивудин), нуклеотидные (например, фосфазид) и ненуклеозидные (например, делавердин). Первые две группы имеют ряд нежелательных побочных эффектов, так как являются структурными аналогами естественных субстратов эндогенных ревертаз (например, ядерной или митохондриальной теломераз). Именно поэтому для них характерна относительно высокая токсичность в отношении клеточных организмов. Группа ненуклеозидных ингибиторов обратной транскриптазы взаимодействует с аллостерическим участком связывания фермента, а потому обладает гораздо большей избирательностью действия и меньшей токсичностью. Более того, для некоторых экспериментальных препаратов этой группы была показана способность эффективно угнетать ревертазы внутриклеточного происхождения, оказывая влияние на процессы пролиферации и дифференциации клеток [10, 112, 113].
Все перечисленные блокаторы обратных транскриптаз клеточного происхождения в той или иной мере блокируют активность ретротранспозонов, что снижет повреждение ДНК и возраст-зависимое, «стерильное» воспаление. Так, предложены нуклеозидные препараты, которые могут быть перенацелены для борьбы с возраст-зависимыми изменениями [14]. Снижение системного воспаления снижает риски развития диабета 2-го типа и нейродегенеративных заболеваний, связанных с воспалением [6]. Как показали исследования, ВИЧ-инфекция значительно ускоряет старение организма, тогда как антиретровирусная терапия ингибиторами обратных транскриптаз ВИЧ-инфицированных снижает биологический возраст, детектируемый по эпигенетическим маркерам [114]. Ингибитор обратной транскриптазы 3TC защищает от когнитивных нарушений, потенциально вызванных возраст-ассоциированным повышением активности мобильных элементов, улучшает когнитивную функцию и уменьшает нейровоспаление у старых мышей дикого типа, сохраняет здоровье нейронов при старении животных [132]. Кроме того, ингибирование активности эндогенной обратной транскриптазы задерживает рост опухолей, поскольку в некоторых случаях при трансформации клеток в опухолевые наблюдается увеличение активности OТ [115]. Так, трансформированные клеточные линии, обработанные ненуклеозидным ингибитором ОТ-активности, Невирапином, значительно снижали скорость роста клеток и склонялись к дифференцировке [74].
Современная высокоактивная антиретровирусная терапия основана на применении «лекарственных коктейлей», включающих нуклеотидные, нуклеозидные и ненуклеозидные ингибиторы вирусной обратной транскриптазы. Такого рода комплексное воздействие позволяет контролировать репликацию вируса, его внедрение в геном и, главное, сводит к минимуму образование лекарственно-устойчивых мутантных штаммов вируса. Одним из наиболее известных представителей класса нуклеозидных блокаторов обратной транскриптазы ВИЧ-1 является азидотимидин. Несмотря на то что это довольно старый и токсичный препарат, он до сих пор используется как часть комплексной антиретровирусной терапии ВИЧ-инфекции и СПИДа [18].
Как указано выше, более привлекательной с точки зрения применения в клинике является группа ненуклеозидных блокаторов обратной транскриптазы. Для применения в зарубежной и отечественной клинической практике было одобрено несколько препаратов: Невирапин, Ифавиренц, Делавирдин (в РФ не применяется), Этравирин и Рилпивирин [1, 56], Доравирин, Элсульфавирин и Айнуовирин.
Хотя, благодаря своей эффективности, препараты этой группы нашли широкое применение в клинике, такие препараты имеют ряд побочных эффектов, включая подавление активности теломеразы, митохондриальной ДНК-полимеразы, и обладают другими системными побочными эффектами [6].
Так, Невирапин в ходе метаболических превращений образует хинониминовые интермедиаты, с чем связана его гепатотоксичность [76, 117]. В еще большей степени гепатотоксические свойства проявляются у Делавирдина, в связи с чем этот препарат уже покидает клиники [62].
С учетом того, что ненуклеозидные ингибиторы репликации ВИЧ являются курсовыми препаратами, которые применяются в комплексе с другими противовирусными средствами, гепатотоксичность является ахиллесовой пятой каждого из них. Кроме того, более новый препарат Ифавиренц обладает психотропными свойствами [8] за счет аффинности к ГАМК [51] и серотонин-реактивным структурам ЦНС [26] (в развивающихся странах Ифавиренц используют для курения в качестве одурманивающего средства [27]), а в ходе биотрансформации Ифавиренц образует метаболиты с выраженными нефротоксическими свойствами [81]. Таким образом, препарат, обладающий нейро- и нефротоксичностью для курсового и тем более для профилактического применения, непригоден и нуждается в безопасной замене.
Новое поколение препаратов группы DAPY (2,4-дианилинопиримидины), Этравирин (TMC125) и Рилпивирин, были введены в клиническую практику. Однако оба эти вещества, в особенности Этравирин, проявили серьезный побочный эффект — кардиотоксичность — в постмаркетинговых исследованиях [90, 136].
В 2018 г. на рынок был выведен еще один блокатор обратной транскриптазы ВИЧ-1 — Доравирин [29]. Пока не накоплен должный объем данных о постмаркетинговых исследованиях этого медикамента, в связи с чем сложно делать однозначные выводы о его эффективности, равно как и выраженности побочных эффектов. Тем не менее химическая структура Доравирина, построенная по принципу Этравирина и Рилпивирина [31], из ароматических и гетероциклических ядер, связанных между собой одноатомными sp3-гибридными мостиками, может также вызывать кардиотоксические эффекты, как и в случае упомянутых выше производных ряда DAPY. Продолжением эксплуатации данного хемотипа (хотя и с биоизостерической заменой гетероядерных фрагментов в составе молекулы бензольными циклами) стала разработка фирмы Hoffman La Roche [US20100063154], выведенная на Российский рынок отечественной компанией Viriom — препарат Элсульфавирин [4]. Это пролекарственный препарат, который декларируется как средство первого выбора при лечении СПИДа и ВИЧ-инфекции в России.
Особняком среди перечисленных препаратов стоит совместная разработка исследователей Китая и Кореи — препарат Айнуовирин [15, 92]. Именно этот новый препарат, судя по его химической структуре [80, 82] и данным первичных исследований [126], имеет шанс стать наименее токсичным и наиболее активным среди выведенных на рынок ненуклеозидных блокаторов ревертазы ВИЧ-1.
Ввиду совокупности фармакодинамических и фармакокинетических параметров, современные ингибиторы обратных транскриптаз, используемые при лечении ВИЧ, пока не могут быть в полной мере использованы как профилактические средства для предотвращения генетической нестабильности или перехода клеток в сенесцентное состояние и требуют дальнейшего совершенствования. Остается актуальным поиск новых субстанций, в том числе и природного происхождения, для снижения побочных эффектов.
Исследование ингибиторов ретровирусной активности природного происхождения, возможно, выявит новые вещества, блокирующие вирусную и ретротранспозонную активность. Например, Ресвератрол нетоксичен и обладает подтвержденной антивирусной активностью против широкого спектра вирусов, включая вирусы простого герпеса, папилломавирусы, вирус острого респираторного синдрома и вирус гриппа. Более того, показана высокая активность Ресвератрола в подавлении генетической нестабильности после радиационного повреждения через активацию AMPK/SIRT7/HMGB1 сигнального пути [54]. Недавние данные указывают на то, что Ресвератрол или его более биодоступный аналог Птеростильбен в комбинации с нуклеотидными ингибиторами ОТ активности полностью блокируют репликацию вируса иммунодефицита человека в CD4+ Т-клетках [20].
В настоящее время ведется разработка серии малых молекул, способных ингибировать эндонуклеазную ферментативную активность белка ORF2 мобильного элемента LINE-1. Эти ингибиторы снижали ретротранспозицию LINE-1, повреждение ДНК, воспаление и риск образования сенесцентных клеток [33].
Таким образом, ингибирование активности обратной транскриптазы, а также эндонуклеазной активности белка ORF2, подавляет транспозицию в геном и может рассматриваться для дальнейшей фармакологической разработки как новый подход для создания профилактических средств, подавляющих генетическую нестабильность и возраст-зависимое воспаление [33].
Механизмы образования сенесцентных клеток как результат генетической нестабильности и инфекционной активности
Генетическая нестабильность — повреждение хромосомного аппарата — активирует ответ на повреждение ДНК — DNA damage response — DDR сигнальный путь. DDR сигнальный путь, в свою очередь, активирует клеточный стресс и переход клеток в состояние сенесцентности, что вызывает хроническое воспаление и, как следствие, истощение и старение иммунной системы. В результате наблюдается снижение эффективности противодействия организма инфекциям и способности распознавать и удалять поврежденные, апоптотические и сенесцентные клетки.
Сенесцентная клетка перестает делиться (экспрессируя маркеры остановки клеточного цикла p16, p21, p27) и приобретает специфический секреторный фенотип, SASP (senescence-associated secretory phenotype/ассоциированный с сенесцентностью секреторный фенотип). SASP характеризуется секрецией серии провоспалительных цитокинов (TNF, IL-1b, IL-6, IL-8, IL-11, CCL2), металлопротеиназ и молекул, называемых сигналами опасности DAMPs (damage-associated molecular patterns) и, в случае сенесцентности, вызванной эндогенными патогенами, PAMPs (pathogen-associated molecular patterns) [77].
Сенесцентные клетки увеличивают общий воспалительный фон всего организма и провоцируют воспалительное старение. Системное воспаление нарушает регуляцию всех органов и тканей организма и становится триггером таких патологий, как диабет, сердечно-сосудистые, нейродегенеративные заболевания и заболевания иммунной системы. Повышенный уровень пролиферации клеток окружающих тканей под воздействием воспалительных факторов стимулирует мутагенез и ускоряет их онкотрансформацию [98].
В то же время образование сенесцентных нефункциональных клеток является компенсаторным механизмом, предотвращающим вирусное или злокачественное преобразование клеток. Реакция на повреждение ДНК задействует механизм тонкой регуляции клеточного деления, отключая естественную пролиферацию, дифференцировку и включая клеточные механизмы сенесцентности, запрещая таким образом вирусам и мобильным элементам, пользуясь результатами мутагенеза, контролировать клеточное деление и дифференцировку.
В молодом возрасте сенесцентные клетки эффективно распознаются и удаляются клетками иммунитета. В пожилом возрасте, при увеличении повреждения ДНК и нарушении транскрипции, увеличивается количество сенесцентных клеток, замещающих собой функциональные клетки. В условиях повышающейся с возрастом генетической нестабильности, мутации в ключевых генах DDR сигнального пути, который является важным составляющей защиты клеток от повреждений, способны привести к малигнизации клеточных популяций. Серия таких генов, в которых возникают мутации, является мишенями для современных стратегий борьбы с опухолевыми клетками хорошо известна: BRCA1/2, ATM, ATR, CHK1 и CHK2, DNA-PK и WEE1 [97].
Другим механизмом, способствующим появлению сенесцентных клеток, является инфицирование вирусами и другими инфекционными агентами. В случае ослабления иммунной системы, вирусы, которые находились с ней в конкурентном балансе, способны формировать очаги воспаления или вызывать стресс и сенесцентность клеток, в том числе клеток иммунной системы [52]. В то время как в молодом возрасте иммунная система распознает клетки с активными ретротранспозонами как зараженные вирусами, вызывая иммунную реакцию по удалению клеток с повышенной транспозабельной активностью, возрастное повышение активности транспозонов способно вызывать сенесцентность клеток и является неблагоприятным фактором для развития заболеваний, ассоциированных с возрастом [41].
Исследование в Пакистане показало ассоциацию между большой нагрузкой цитомегаловируса (CMV) в крови и смещением соотношения CD4/CD8, что авторы связывают с более ранним старением и большим количеством сенесцентных клеток иммунной системы. Хроническое течение и периодические рецидивы CMV-инфекции у человека приводят к постоянной активации Т-клеток, что считается драйвером иммунного старения у людей. Как отмечают авторы, ускоренное CMV-зависимое старение иммунной системы отмечается после полового созревания и значительно ускоряется при инволюции тимуса [122], то есть в период сокращения притока наивных клеток из тимуса. Примечательно, что такое же резкое снижение CD4+ Т-клеток при неизменном количестве CD8+ Т-клеток наблюдали при болезни Альцгеймера [66], что может также свидетельствовать об ускоренном старении CD4+ лимфоцитов и их роли в патогенезе заболевания.
Роль ВИЧ в иммунном старении также широко известна. Такое иммунное старение ассоциировано с накоплением клеток TEMRA — terminal effector memory T cells — индуцированное ВИЧ-инфекцией [44]. Иммунное старение с накоплением TEMRA и сенесцентных клеток наблюдалось даже у детей, инфицированных ВИЧ, что сопровождалось снижением экспрессии CD28, CD31 (фенотип недавних эмигрантов из тимуса) и увеличением экспрессии CD57 — маркера клеток памяти и старения Т-лимфоцитов [39, 110].
Повышение количества сенесцентных Т-клеток в циркуляции крови обнаружено при кожном лейшманиозе. Авторы характеризуют их как истощенные клетки памяти с фенотипом CD57+ KLRG-1+ и γH2AX+, отличающиеся низкой экспрессией hTERT и короткими теломерами. Эта популяция Т-клеток продуцировала высокие уровни воспалительных цитокинов и составляла существенную частью из популяции TEMRA — CD45RA+CD27– [25].
Кроме того, показана ассоциация увеличения количества TEMRA и сенесцентных клеток в циркуляции крови с нейродегенеративными заболеваниями и ускоренным старением. Такая же ассоциация показана при хронической инфекции вирусом Эпштейна–Барр [48, 49, 106].
Обнаружено также, что вариации в составе вирусного генома в кишечнике связаны с воспалением и старением [104] и могут быть причиной развития ряда заболеваний [60]. Большинство вирусов в кишечнике — это бактериофаги, которые, возможно, помогают организму контролировать численность условно-патогенных бактерий и поддерживать здоровый микробиом для контроля воспаления.
В целом увеличение сенесцентных клеток иммунной системы в циркулирующей крови снижает эффективность борьбы с инфекциями. Связь хронических инфекций с увеличением количества сенесцентных клеток и с ускорением старения организма показана в серии современных работ и отражена в обзорах по этой теме [69, 103, 128].
Вирусы, встраивающиеся в геном клеток или подвергающие значительное количества клеток токсическому или пролиферативного стрессу, дестабилизирующему геном, являются исключительно важным негативным фактором развития сенесцентного состояния клеток иммунной системы и всего организма, который в конечном счете приводит к ускорению процессов старения.
Сенолитики и сеноморфики как способ борьбы с последствиями генетической нестабильности
Возрастание генетической нестабильности с возрастом увеличивает количество сенесцентных клеток с воспалительным фенотипом, в том числе сенесцентных клеток иммунной системы [85]. В связи с этим многие научные группы и индустриальные компании сосредоточены на синтезе сенолитиков — соединений, удаляющих сенесцентные клетки из организма [121], а также сеноморфиков — веществ, блокирующих секрецию сенесцентными клетками факторов SASP для предотвращения воспалительного повреждения организма [3, 94].
Сенесцентные клетки могут быть элиминированы воздействием на различные факторы метаболических путей, специфичных для сенесцентных клеток, например препятствующие их переходу к апоптозу (senescent cell antiapoptotic pathways, SCAP) [19]. Так, например, применение комбинации дазатиниба и кверцетина снижает количество сенесцентных клеток и секрецию факторов SASP. Первый блокирует антиапоптотические белки семейства BCL-2, а второй, выступая одновременно как антиоксидант и ингибитор JAK–STAT сигнального пути, подавляет воспаление [67]. Применение сенолитиков, воздействующих на альтернативные сигнальные пути сенесцентных клеток, является перспективным подходом при борьбе с клетками с повышенной генетической нестабильностью, хронически секретирующими воспалительные факторы, вызывающие заболевания, ассоциированные с возрастным воспалением.
Исследуемые препараты демонстрируют сенолитическую активность in vitro и на моделях животных in vivo, их эффективность в организме человека все еще нуждается в дальнейших исследованиях и клинических испытаниях. В настоящее время проводят клинические испытания ряда сенолитиков [19], а также ищут новые подходы для идентификации кандидатных субстанций [121], поскольку применение некоторых сенолитиков крайне ограничено из-за их токсических эффектов. Некоторые статьи указывают на неубедительность доказательств эффективности комбинации дазатиниба и кверцетина в отношении снижения циркулирующих факторов SASP [57]. В связи с этим необходима разработка избирательных подходов элиминации сенесцентных и апоптотических клеток, а также блокировки факторов SASP [67].
Разработка сеноморфиков является менее популярным направлением в разработке препаратов. Действие сеноморфиков основано на блокировке метаболических путей, приводящих к экспрессии воспалительных цитокинов (SASP). Таким образом, сеноморфики нацелены на блокировку таких метаболических путей, как NF-κB, mTOR, IL-1α, p38 MAPK и другие. Было выяснено, что препарат метформин, первоначально используемый для лечения диабета 2 типа, снижает смертность и развитие возраст-ассоциированных заболеваний у пациентов, а также увеличивает продолжительность жизни и улучшает состояние здоровья модельных животных. На модельных организмах показано, что метформин подавляет клеточное старение и экспрессию SASP, потенциально являясь геропротектором. Однако механизм действия этого препарата до сих пор остается неясным [141]. Другие перспективные либо применяемые в клинике препараты с потенциальными сенотерапевтическими эффектами были протестированы на предмет сеноморфной активности на модельных организмах и клеточных культурах и в настоящее время не достигли фазы клинических испытаний [73, 139, 141].
Таким образом, в настоящее время не существует фармацевтических препаратов, которые бы в полной мере отвечали комплексу требований средств профилактики старения и возраст-ассоциированных заболеваний. Общетоксические побочные эффекты субстанций-ингибиторов обратной транскриптазы, и, в особенности, токсическое действие на почки, поджелудочную железу, клетки нервной системы, а также неспецифическое воздействие современных сенолитиков и сеноморфиков на постмитотические и терминально дифференцированные клетки, ограничивают их применение. Зачастую к названным негативным свойствам описанных групп веществ добавляется их выраженная способность вызывать лекарственную болезнь печени как при однократном, так и при системном применении [19, 141].
Вакцинация и таргетирование против сенесцентных клеток, вирусов, эндогенных RTV/TE, ассоциированных с генетической нестабильностью
Следующим из рассматриваемых подходов борьбы с нарастающей генетической нестабильностью, нефункциональными клетками и воспалительными заболеваниями как результом вирусного инфицирования, является вакцинация. Активация врожденного и адаптивного иммунного ответа против сенесцентных клеток и клеток с повышенной генетической нестабильностью представляется важной и актуальной задачей для профилактики заболеваний, ассоциированных с возрастом. Вирусспецифичные Т-клетки и антитела, распознающие вирусные эпитопы, способны сдерживать рост популяции поврежденных и сенесцентных клеток, реагируя на внутриклеточные и поверхностные неоантигены, а также на стресс-молекулы [78].
Важными клетками, поддерживающими генетическую стабильность в организме через контроль пролиферации и накопление клеток с повреждением ДНК в организме, являются Т-клетки и естественные киллеры. Эти иммунные клетки распознают стрессированные клетки и клетки с неоантигенами. Снижение с возрастом эффективности Т-клеточного ответа снижает защитную реакцию против экзогенных ретровирусных инфекций, а также реакцию на неоантигены, связанные с возраст-зависимой активностью ретровирусов и ретротранспозонов [28, 41, 78].
Новые разработки CAR-T терапевтических продуктов позволили продвинутся в области контроля сенесцентных клеток и возрастных патологий. Так, успешно испытаны CAR-T вакцины, направленные на маркеры сенесцентных клеток NKG2D, CD26 (DPP4), uPAR. Применение CAR-T вакцин позволило снизить популяцию сенесцентных клеток у мышей и предотвратить воспалительные патологии [7, 61, 123]. Также удачным было удаление сенесцентных клеток, экспрессирующих лиганды MICA и ULBP2 к рецепторам активированных естественных киллеров, что опосредует их направленную цитотоксичность [111]. Кроме того, иммунизация против CD153 позволила снизить популяцию сенесцентных CD8+ Т-клеток у мышей [140]. Ингибиторы контрольных точек, которые экспрессируются на сенесцентных клетках, также рассматриваются рядом авторов как потенциальные мишени для активации гуморального ответа против сенесцентных клеток (PD-L1, CTLA4) [93].
Гуморальный ответ также является важным фактором сдерживания накопления стареющих популяций иммунных клеток. Показано, что направленное удаление отдельных клеточных популяций стволовых клеток крови, пролиферирующих в результате мутаций или хронической стимуляции, с помощью специфичных антител способно замедлить воспалительное старение и склонность стареющей иммунной системы производить преимущественно миелоидные клетки [108].
В то же время иммунизация против вирусов, способных повреждать геном, позволяет настроить иммунную систему на распознавание клеток с повышенной генетической нестабильностью. Так, цитомегаловирус (CMV) вовлечен в пролиферативный стресс. Эктопическая экспрессия вирусных генов IE72 и IE86 в клетках человека индуцирует репликативный стресс и увеличивает геномную нестабильность [79]. Кроме того, как показали недавние исследования, CMV, интерферируя с DDR каскадом, вызывает состояние сенесцентности как в гематопоэтических, так и в эпителиальных клетках. Так, в зараженных первичных клетках эпителия почечных канальцев наблюдали снижение экспрессии ламинина B1 и KI67 и повышенную секрецию IL-6 и IL-8. Все эти изменения являются общепризнанными признаками сенесцентости клеток. Секреция IL-6 этими клетками приводила к репликативному стрессу в соседних неинфицированных клетках, что также вызывало у них сенесцентное состояние [101]. CMV ассоциируют не только с ускоренным старением, но и с рядом опасных онкологических заболеваний, включая глиобластомы и лимфомы. Более того, у женщин, инфицированных CMV, значительно повышен риск дефектов развития плода. Компания Moderna (США) разрабатывает первую РНК-вакцину (mRNA-1647) против CMV. В настоящее время вакцина проходит этап клинических испытаний [50].
Помимо этого, около 90% взрослого населения мира являются носителями вируса Эпштейна–Барр (ВЭБ), заражаясь им в раннем возрасте. Синтезируя белок EBNA1, который прямо связывается 11 хромосомой и вызывает двухцепочечные разрывы ДНК, вирус инициирует повреждение генома [35]. Ряд злокачественных новообразований, в том числе рак носоглотки, желудка, легких, печени, пищевода, молочной железы, шейки матки и др., ассоциированы с присутствием этого вируса в клетках [137]. Также считается, что ВЭБ является первоначальным триггером рассеянного склероза. При этом авторы отмечают, что лишь у небольшой части зараженных вирусом людей развивается рассеянный склероз (1 из 500 позитивных на вирус в течении 10 лет). Однако у ВЭБ-негативных пациентов рассеянный склероз развивается с частотой 1 из 10 000, что говорит о вкладе вирусного повреждения в развитие болезни. Таким образом, массовая вакцинация против ВЭБ может значительно снизить распространенность рассеянного склероза в человеческой популяции [106] и снизить риск развития ряда онкологических заболеваний. Разработка вакцины против ВЭБ является важной задачей по предотвращению и снижению распространенности вышеназванных онкологических заболеваний, мононуклеоза, рассеянного склероза. По-видимому, вакцинация также может снизить риск возникновения генетической нестабильности клеток. В настоящее время компания WestGene (Китай) разрабатывает вакцину WGc-043 против этого вируса. Результаты первой фазы клинических испытаний доказали безопасность и высокую иммуногенность вакцины [37]. Биотехнологическая компания Moderna также объявила о начале испытаний новой мРНК вакцины (mRNA-1189) против ВЭБ. В настоящее время в рамках проведения клинических испытаний вакцину испытывают на предмет безопасности и иммуногенности [142].
Вирус папилломы человека (ВПЧ) тоже вызывает генетическую нестабильность. Некоторые его штаммы являются высокоонкогенными. В серии исследований сообщалось о влиянии экспрессии онкогенов ВПЧ E6 и E7 на практически все основные механизмы репарации ДНК в клетках. Это является фактором, вызывающим повышенную генетическую нестабильность [99]. При этом профилактическая прививка снижает риск развития рака половых органов и рака мочевого пузыря [127].
Показатели внутрибольничной смертности от сердечной недостаточности были почти в три раза ниже у пациентов, которым была сделана профилактическая прививка от гриппа и от пневмонии. Согласно результатам последних клинических испытаний, объявленных Европейским обществом кардиологов, такая зависимость наблюдалась даже при острых вирусных инфекциях, для которых не показано прямое повреждение ДНК [11].
Эти исследования подтверждают, что регулярная вакцинация даже традиционными вакцинами спасает жизни людей в предпенсионном и пенсионном возрасте от самого вируса и, в еще большей степени, от осложнений от инфекционных заболеваний, включая токсическое повреждение клеток и их генома.
В то же время в связи с развитием в последнее десятилетие РНК-вакцин и массовой вакцинации ими, все больше вопросов возникает о роли эндогенных ОТ во внедрении РНК-вакцин в геном, провоцирующем нестабильность последнего. Особенно это проблематично в пожилом возрасте, когда активность ОТ возрастает. В литературе недостаточно данных, подтверждающих или опровергающих способность мРНК к внедрению в геном через эндогенные ОТ ретроэлементов. Это обосновывает необходимость соответствующих исследований по возможным механизмам внедрения РНК-вакцин, мутагенезу ДНК и нестабильности генома, равно как и высокопроизводительному скринингу ингибиторов эндогенных ОТ для снижения риска возникновения нестабильности генома при вакцинации. Данные исследования являются приоритетной задачей для обеспечения безопасности РНК-вакцин, в особенности для лиц пожилого возраста [32].
На этапе разработки находятся вакцины против ряда вирусов, вызывающих ускоренное старение и возраст-ассоциированные заболевания. Синтез и валидация веществ, предотвращающих генетическую нестабильность, клеточный стресс, переход клеток к сенесцентному состоянию — а значит и предотвращающих возрастные изменения — потенциально предотвратит патологии, связанные с возрастом, и продлит активное долголетие.
Заключение
Превентивная медицина при кажущемся значительном увеличении затрат позволяет предотвратить серьезные патологии на ранних стадиях, таким образом снижая нагрузку на систему здравоохранения. Особенно это касается возможности продлить активный возраст, сохраняя при этом резерв человеческих трудовых ресурсов при глобальном старении населения планеты и, в том числе, России.
Старение представляет собой многофакторный комплексный процесс, биомолекулярные механизмы которого пока недостаточно изучены и не сводятся только к нарастанию генетической нестабильности и образованию в организме сенесцентных клеток. Однако геномная нестабильность является осевым фактором возникновения и развития патологий, ассоциированных с возрастом. Основой постижения механизмов старения является вскрытие первоначальных, базовых причин старения и возрастных патологий. Исследования последних лет показали, что одной из важных базовых причин старения организма является прогрессирующая с возрастом генетическая нестабильность. Причинами такой нестабильности является возрастное ослабление генетического и эпигенетического контроля, в том числе над активностью эндогенных обратных транскриптаз, а также возрастное ослабление иммунного надзора, связанное с инволюцией тимуса, снижением продукции костным мозгом гемопоэтических предшественников и накоплением сенесцентных и истощенных популяций иммунной системы. Все эти факторы ослабляют эффективность иммунного надзора, снижая очистку организма от инфицированных вирусами клеток, апоптотических, истощенных и сенесцентных клеток. В результате таких событий активируются воспалительные сигнальные пути, повышается канцерогенез, риски нейродегенеративных заболеваний, сердечно-сосудистых патологий и диабета.
Перспективным направлением фармакологии является разработка и внедрение препаратов, блокирующих или предотвращающих воздействие биогенных факторов на генетический аппарат. Это позволит осуществлять профилактику возраст-ассоциированных заболеваний. Такие препараты как ингибиторы ОТ и эндонуклеазной активности ретровирусов, ретротранспозонов, блокаторы другой вирусной активности, а также препараты, элиминирующие сенесцентные клетки — сенолитики — и блокирующие негативное воздействие SASP — сеноморфики — должны составлять основу возрастной профилактики патологий. Применение антиретровирусных препаратов способно замедлять наступление патологий, ассоциированных с возрастом, предотвращая преждевременное старение, связанное с активацией ретротранспозонов и ретровирусов в отдельных клеточных популяциях [100, 141].
Другим важным направлением снижения генетической нестабильности в отдельных клеточных популяциях является иммунизация с целью удаления поврежденных, генетически нестабильных и сенесцентных клеток. Иммунизация может проводиться против аминокислотных последовательностей оболочек ретровирусов и против функциональных эпитопов критических ферментов ретровирусов/ретротранспозонов, а также эпитопов сенесцентных клеток. Иммунизация против наиболее эволюционно молодых ретровирусов потенциально наиболее безопасна для организма, поскольку, в отличие от эволюционно древних транспозонов, они не были включены в процессы эмбрионального развития и V(D)J рекомбинацию [68].
Кроме того, представляется перспективной разработка препаратов, направленных на усиление репарации ДНК [40, 54].
Таким образом, данные, представленные в обзоре, демонстрируют необходимость дальнейшего изучения причин генетической нестабильности, связанных с эндогенными, экзогенными факторами и механизмами сенесцентности. Помимо этого, для обеспечения активного и здорового долголетия населения необходимо развивать фармакологические и иммунологические подходы для контроля клеточных патологий, связанных с генетической нестабильностью и сенесцентностью.
Об авторах
Елена Васильевна Лысакова
АНОО ВО Научно-технологический университет «Сириус»
Автор, ответственный за переписку.
Email: helena.llysakova@mail.ru
аспирант, младший научный сотрудник, направление «Иммунобиология и биомедицина»
Россия, Федеральная территория «Сириус», Краснодарский крайМарина Юрьевна Бурак
АНОО ВО Научно-технологический университет «Сириус»
Email: marina.burak188@mail.ru
магистрант
Россия, Федеральная территория «Сириус», Краснодарский крайМаксим Борисович Навроцкий
АНОО ВО Научно-технологический университет «Сириус»
Email: navrotskij.mb@talantiuspeh.ru
к.ф.н., руководитель группы «Медицинская химия», направление «Медицинская биотехнология»
Россия, Федеральная территория «Сириус», Краснодарский крайСтанислав Александрович Рыбцов
АНОО ВО Научно-технологический университет «Сириус»
Email: rybtsov.sa@talantiuspeh.ru
к.б.н., руководитель ресурсного центра клеточных технологий и иммунологии
Россия, Федеральная территория «Сириус», Краснодарский крайСписок литературы
- Власова О.А., Антонова И.А., Магомедова Х.М., Усолкина М.А., Кирсанов К.И., Белицкий Г.А., Якубовская М.Г. Потенциальные возможности использования в онкологии ингибиторов обратной транскриптазы вирусов // Успехи молекулярной онкологии. 2024. Т. 11. C. 8–28. [Vlasova O.A., Antonova I.A., Magomedova H.M., Usolkina M.A., Kirsanov K.I., Belitsky G.A., Yakubovskaya M.G. Potential to use of viral reverse transcriptase inhibitors in oncology. Uspekhi molekulyarnoi onkologii = Advances in Molecular Oncology, 2024, vol. 11, pp. 8–28. (In Russ.)] doi: 10.17650/2313-805x-2024-11-2-8-28
- Ганковская Л.В., Артемьева О.В., Греченко В.В., Насаева Е.Д., Хасанова Е.М. Возраст-ассоциированные заболевания: роль инфламмасомного комплекса // Иммунология. 2023. Т. 44, № 5. С. 640–652. [Gankovskaya L.V., Artemyeva O.V., Grechenko V.V., Nasaeva E.D., Khasanova E.M. Age-associated diseases: the role of the inflammasome complex. Immunologiya = Immunologiya, 2023, vol. 44, no. 5, pp. 640–652. (In Russ.)] doi: 10.33029/1816-2134-2023-44-5-640-652
- Масютина А.М., Пащенков М.В., Пинегин Б.В. Клеточное старение: механизмы и клиническое значение // Иммунология. 2024. Т. 45, № 2. С. 221–234. [Masyutina A.M., Pashenkov M.V. Cellular senescence: mechanisms and clinical implications. Immunologiya = Immunologiya, 2024, vol. 45, no. 2, pp. 221–234. (In Russ.)] doi: 10.33029/1816-2134-2024-45-2-221-234
- Al-Salama Z.T. Elsulfavirine: First Global Approval. Drugs, 2017, vol. 77, no. 16, pp. 1811–1816. doi: 10.1007/s40265-017-0820-3
- Ahmadi Ghezeldasht S., Blackbourn D.J., Mosavat A., Rezaee S.A. Pathogenicity and virulence of human T lymphotropic virus type-1 (HTLV-1) in oncogenesis: adult T-cell leukemia/lymphoma (ATLL). Crit. Rev. Clin. Lab. Sci., 2023, vol. 60, no. 3, pp. 189–211. doi: 10.1080/10408363.2022.2157791
- Ambati J., Magagnoli J., Leung H., Wang S.B., Andrews C.A., Fu D., Pandey A., Sahu S., Narendran S., Hirahara S., Fukuda S., Sun J., Pandya L., Ambati M., Pereira F., Varshney A., Cummings T., Hardin J.W., Edun B., Bennett C.L., Ambati K., Fowler B.J., Kerur N., Röver C., Leitinger N., Werner B.C., Stein J.D., Sutton S.S., Gelfand B.D. Repurposing anti-inflammasome NRTIs for improving insulin sensitivity and reducing type 2 diabetes development. Nat Commun., 2020, vol. 11, no. 1: 4737. doi: 10.1038/s41467-020-18528-z
- Amor C., Feucht J., Leibold J., Ho Y.J., Zhu C., Alonso-Curbelo D., Mansilla-Soto J., Boyer J.A., Li X., Giavridis T., Kulick A., Houlihan S., Peerschke E., Friedman S.L., Ponomarev V., Piersigilli A., Sadelain M., Lowe S.W. Senolytic CAR T cells reverse senescence-associated pathologies. Nature, 2020, vol. 583, no. 7814, pp. 127–132. doi: 10.1038/s41586-024-07197-3
- Apostolova N., Funes H.A., Blas-Garcia A., Galindo M.J., Alvarez A., Esplugues J.V. Efavirenz and the CNS: what we already know and questions that need to be answered. J. Antimicrob. Chemother., 2015, vol. 70, no. 10, pp. 2693–2708. doi: 10.1093/jac/dkv183
- Baldwin E.T., van Eeuwen T., Hoyos D., Zalevsky A., Tchesnokov E.P., Sánchez R., Miller B.D., Di Stefano L.H., Ruiz F.X., Hancock M., Işik E., Mendez-Dorantes C., Walpole T., Nichols C., Wan P., Riento K., Halls-Kass R., Augustin M., Lammens A., Jestel A., Upla P., Xibinaku K., Congreve S., Hennink M., Rogala K.B., Schneider A.M., Fairman J.E., Christensen S.M., Desrosiers B., Bisacchi G.S., Saunders O.L., Hafeez N., Miao W., Kapeller R., Zaller D.M., Sali A., Weichenrieder O., Burns K.H., Götte M., Rout M.P., Arnold E., Greenbaum B.D., Romero D.L., LaCava J., Taylor M.S. Structures, functions and adaptations of the human LINE-1 ORF2 protein. Nature, 2024, vol. 626, no. 7997, pp. 194–206. doi: 10.1038/s41586-023-06947-z
- Bartolini S., Mai A., Artico M., Paesano N., Rotili D., Spadafora C., Sbardella G. 6-[1-(2,6-Difluorophenyl)ethyl]pyrimidinones Antagonize Cell Proliferation and Induce Cell Differentiation by Inhibiting (a Nontelomeric) Endogenous Reverse Transcriptase. J. Med. Chem., 2005, vol. 48, no. 22, pp. 6776–6778. doi: 10.1021/jm0507330
- Bhatt A.S., DeVore A.D., Hernandez A.F., Mentz R.J. Can vaccinations improve heart failure outcomes?: contemporary data and future directions. JACC Heart Fail., 2017, vol. 5, no. 3, pp. 194–203. doi: 10.1016/j.jchf.2016.12.007
- Bi S., Liu Z., Wu Z., Wang Z., Liu X., Wang S., Ren J., Yao Y., Zhang W., Song M., Liu G.H., Qu J. SIRT7 antagonizes human stem cell aging as a heterochromatin stabilizer. Protein Cell, 2020, vol. 11, no. 7, pp. 483–504. doi: 10.1007/s13238-020-00728-4
- Brenner C. Sirtuins are not conserved longevity genes. Life Metab., 2022, vol. 1, no. 2, pp. 122–133. doi: 10.1093/lifemeta/loac025
- Brochard T., McIntyre R.L., Houtkooper R.H., Seluanov A., Gorbunova V., Janssens G.E. Repurposing nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NRTIs) to slow aging. Ageing Res. Rev., 2023, vol. 92: 102132. doi: 10.1016/j.arr.2023.102132
- Buckheit R.W. Jr., Watson K., Fliakas-Boltz V., Russell J., Loftus T.L., Osterling M.C., Turpin J.A., Pallansch L.A., White E.L., Lee J.W., Lee S.H., Oh J.W., Kwon H.S., Chung S.G., Cho E.H. SJ-3366, a unique and highly potent nonnucleoside reverse transcriptase inhibitor of human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) that also inhibits HIV-2. Antimicrob. Agents Chemother., 2001, vol. 45, no. 2, pp. 393–400. doi: 10.1128/AAC.45.2.393-400.2001
- Budzik K.M., Nace R.A., Ikeda Y., Russell S.J. Evaluation of the stability and intratumoral delivery of foreign transgenes encoded by an oncolytic Foamy Virus vector. Cancer Gene Ther., 2022, vol. 29, no. 8–9, pp. 1240–1251. doi: 10.1038/s41417-022-00431-y
- Calcinotto A., Kohli J., Zagato E., Pellegrini L., Demaria M., Alimonti A. Cellular senescence: aging, cancer, and injury. Physiol. Rev., 2019, vol. 99, no. 2, pp. 1047–1078. doi: 10.1152/physrev.00020.2018
- Cambou M.C., Landovitz R.J. Novel antiretroviral agents. Curr. HIV/AIDS Rep., 2020, vol. 17, no. 2, pp. 118–124. doi: 10.1007/s11904-020-00486-2
- Chaib S., Tchkonia T., Kirkland J.L. Cellular senescence and senolytics: the path to the clinic. Nat. Med., 2022, vol. 28, no. 8, pp. 1556–1568. doi: 10.1038/s41591-022-01923-y
- Chan C.N., Trinité B., Levy D.N. Potent inhibition of HIV-1 replication in resting CD4 T cells by resveratrol and pterostilbene. Antimicrob. Agents Chemother., 2017, vol. 61, no. 9: e00408-17. doi: 10.1128/AAC.00408-17
- Childs B.G., Durik M., Baker D.J., van Deursen J.M. Cellular senescence in aging and age-related disease: from mechanisms to therapy. Nat. Med., 2015, vol. 21, no. 12, pp. 1424–1435. doi: 10.1038/nm.4000
- Contreras-Galindo R., Dube D., Fujinaga K., Kaplan M.H., Markovitz D.M. Susceptibility of human endogenous retrovirus type K to reverse transcriptase inhibitors. J. Virol., 2017, vol. 91, no. 23: e01309-17. doi: 10.1128/JVI.01309-17
- Costa B., Vale N. Exploring HERV-K (HML-2) influence in cancer and prospects for therapeutic interventions. Int. J. Mol. Sci., 2023, vol. 24, no. 19: 14631. doi: 10.3390/ijms241914631
- Costello K.R., Leung A., Trac C., Lee M., Basam M., Pospisilik J.A., Schones D.E. Sequence features of retrotransposons allow for epigenetic variability. Elife, 2021, vol. 10: e71104. doi: 10.7554/eLife.71104
- Covre L.P., Martins R.F., Devine O.P., Chambers E.S., Vukmanovic-Stejic M., Silva J.A., Dietze R., Rodrigues R.R., de Matos Guedes H.L., Falqueto A., Akbar A.N., Gomes D.C.O. Circulating senescent T cells are linked to systemic inflammation and lesion size during human cutaneous leishmaniasis. Front. Immunol., 2019, vol. 9: 3001. doi: 10.3389/fimmu.2018.03001
- Dalwadi D.A., Kim S., Amdani S.M., Chen Z., Huang R.Q., Schetz J.A. Molecular mechanisms of serotonergic action of the HIV-1 antiretroviral efavirenz. Pharmacol. Res., 2016, vol. 110, pp. 10–24. doi: 10.1016/j.phrs.2016.04.028
- Dalwadi D.A., Ozuna L., Harvey B.H., Viljoen M., Schetz J.A. Adverse neuropsychiatric events and recreational use of efavirenz and other HIV-1 antiretroviral drugs. Pharmacol. Rev., 2018, vol. 70, no. 3, pp. 684–711. doi: 10.1124/pr.117.013706
- De Cecco M., Ito T., Petrashen A.P., Elias A.E., Skvir N.J., Criscione S.W., Caligiana A., Brocculi G., Adney E.M., Boeke J.D., Le O., Beauséjour C., Ambati J., Ambati K., Simon M., Seluanov A., Gorbunova V., Slagboom P.E., Helfand S.L., Neretti N., Sedivy J.M. L1 drives IFN in senescent cells and promotes age-associated inflammation. Nature, 2019, vol. 566, no. 7742, pp. 73–78. doi: 10.1038/s41586-018-0784-9
- Deeks E.D. Doravirine: first global approval. Drugs, 2018, vol. 78. no. 15, pp. 1643–1650. doi: 10.1007/s40265-018-0993-4
- Dembny P., Newman A.G., Singh M. Human endogenous retrovirus HERV-K(HML-2) RNA causes neurodegeneration through Toll-like receptors. JCI Insight, 2020, vol. 5, no. 7: e131093. doi: 10.1101/721241
- Ding L., Zhuang C., Chen F. Druggability modification strategies of the diarylpyrimidine-type non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors. Med. Res. Rev., 2021, vol. 41, no. 3, pp. 1255–1290. doi: 10.1002/med.21760
- Domazet-Lošo T. mRNA vaccines: why is the biology of retroposition ignored? Genes (Basel), 2022, vol. 13, no. 5: 719. doi: 10.3390/genes13050719
- D’Ordine A.M., Jogl G., Sedivy J.M. Identification and characterization of small molecule inhibitors of the LINE-1 retrotransposon endonuclease. Nat. Commun., 2024, vol. 15, no. 1: 3883. doi: 10.1038/s41467-024-48066-x
- Dupressoir A., Lavialle C., Heidmann T. From ancestral infectious retroviruses to bona fide cellular genes: role of the captured syncytins in placentation. Placenta, 2012, vol. 33, no. 9, pp. 663–671. doi: 10.1016/j.placenta.2012.05.005
- Frappier L. Epstein–Barr virus is an agent of genomic instability. Nature, 2023, vol. 616, no. 7957, pp. 441–442. doi: 10.1038/d41586-023-00936-y
- Freeman B., White T., Kaul T., Stow E.C., Baddoo M., Ungerleider N., Morales M., Yang H., Deharo D., Deininger P., Belancio V.P. Analysis of epigenetic features characteristic of L1 loci expressed in human cells. Nucleic Acids. Res., 2022, vol. 50, no. 4, pp. 1888–1907. doi: 10.1093/nar/gkac013
- Gaggar A., Coeshott C., Apelian D., Rodell T., Armstrong B.R., Shen G., Subramanian G.M., McHutchison J.G. Safety, tolerability and immunogenicity of GS-4774, a hepatitis B virus-specific therapeutic vaccine, in healthy subjects: a randomized study. Vaccine, 2014, vol. 32. no. 39, pp. 4925–4931. doi: 10.1016/j.vaccine.2014.07.027
- Galindo R., Kaplan M.H., Leissner P., Verjat T., Ferlenghi I., Bagnoli F., Giusti F., Dosik M.H., Hayes D.F., Gitlin S.D., Markovitz D.M. Human endogenous retrovirus K (HML-2) elements in the plasma of people with lymphoma and breast cancer. J. Virol., 2008, vol. 82, no. 19, pp. 9329–9336. doi: 10.1128/JVI.00646-08
- Gianesin K., Noguera-Julian A., Zanchetta M., Del Bianco P., Petrara M.R., Freguja R., Rampon O., Fortuny C., Camós M., Mozzo E., Giaquinto C., De Rossi A. Premature aging and immune senescence in HIV-infected children. AIDS, 2016, vol. 30, no. 9, pp. 1363–1373. doi: 10.1097/QAD.0000000000001093
- Gioia U., Francia S., Cabrini M., Brambillasca S., Michelini F., Jones-Weinert C.W., d’Adda di Fagagna F. Pharmacological boost of DNA damage response and repair by enhanced biogenesis of DNA damage response RNAs. Sci. Rep., 2019, vol. 9, no. 1: 6460. doi: 10.1038/s41598-019-42892-6
- Gorbunova V., Seluanov A., Mita P., McKerrow W., Fenyö D., Boeke J.D., Linker S.B., Gage F.H., Kreiling J.A., Petrashen A.P., Woodham T.A., Taylor J.R., Helfand S.L., Sedivy J.M. The role of retrotransposable elements in ageing and age-associated diseases. Nature, 2021, vol. 596, no. 7870, pp. 43–53. doi: 10.1038/s41586-021-03542-y
- Grow E.J., Flynn R.A., Chavez S.L., Bayless N.L., Wossidlo M., Wesche D.J., Martin L., Ware C.B., Blish C.A., Chang H.Y., Pera R.A., Wysocka J. Intrinsic retroviral reactivation in human preimplantation embryos and pluripotent cells. Nature, 2015, vol. 522, no. 7555, pp. 221–225. doi: 10.1038/nature14308
- Guo J., Huang X., Dou L., Yan M., Shen T., Tang W., Li J. Aging and aging-related diseases: from molecular mechanisms to interventions and treatments. Signal Transduct. Target Ther., 2022, vol. 7, no. 1: 391. doi: 10.1038/s41392-022-01251-0
- Guo L., Liu X., Su X. The role of TEMRA cell-mediated immune senescence in the development and treatment of HIV disease. Front. Immunol., 2023, vol. 14: 1284293. doi: 10.3389/fimmu.2023.1284293
- Gutiérrez-Sevilla J.E., Cárdenas-Bedoya J., Escoto-Delgadillo M., Zúñiga-González G.M., Pérez-Ríos A.M., Gómez-Meda B.C., González-Enríquez G.V., Figarola-Centurión I., Chavarría-Avila E., Torres-Mendoza B.M. Genomic instability in people living with HIV. Mutat. Res. Genet. Toxicol. Environ. Mutagen., 2021, vol. 865: 503336. doi: 10.1016/j.mrgentox.2021.503336
- Hancks D.C., Kazazian H.H. Jr. Roles for retrotransposon insertions in human disease. Mob. DNA, 2016, vol. 7, no. 1: 9. doi: 10.1186/s13100-016-0065-9
- He J., Fu X., Zhang M., He F., Li W., Abdul M.M., Zhou J., Sun L., Chang C., Li Y., Liu H., Wu K., Babarinde I.A., Zhuang Q., Loh Y.H., Chen J., Esteban M.A., Hutchins A.P. Transposable elements are regulated by context-specific patterns of chromatin marks in mouse embryonic stem cells. Nat. Commun., 2019, vol. 10, no. 1: 34. doi: 10.1038/s41467-018-08006-y
- Heneka M.T. An immune-cell signature marks the brain in Alzheimer’s disease. Nature, 2020, vol. 577, no. 7790, pp. 322–323. doi: 10.1038/d41586-019-03892-8
- Hofstee M.I., Cevirgel A., de Zeeuw-Brouwer M.L., de Rond L., van der Klis F., Buisman A.M. Cytomegalovirus and Epstein–Barr virus co-infected young and middle-aged adults can have an aging-related T-cell phenotype. Sci. Rep., 2023, vol. 13, no. 1, pp. 10912 doi: 10.1038/s41598-023-37502-5
- Hu X., Karthigeyan K.P., Herbek S., Valencia S.M., Jenks J.A., Webster H., Miller I.G., Connors M., Pollara J., Andy C., Gerber L.M., Walter E.B., Edwards K.M., Bernstein D.I., Hou J., Koch M., Panther L., Carfi A., Wu K., Permar S.R. Human cytomegalovirus mRNA-1647 vaccine candidate elicits potent and broad neutralization and higher antibody-dependent cellular cytotoxicity responses than the gB/MF59 vaccine. J. Infect. Dis., 2024, vol. 230, no. 2, pp. 455–466. doi: 10.1093/infdis/jiad593
- Huang R., Chen Z., Dolan S., Schetz J.A, Dillon G.H. The dual modulatory effects of efavirenz on GABAA receptors are mediated via two distinct sites. Neuropharmacology, 2017, vol. 121, pp. 167–178. doi: 10.1016/j.neuropharm.2017.04.038
- Hurme M. Viruses and immunosenescence — more players in the game. Immun. Ageing, 2019, vol. 16, no. 1: 13. doi: 10.1186/s12979-019-0152-0
- Jin L., He J., Feng H., Li S., Liu H., Dong H., Hu M., Huang J., Wu H., Chen J., Qi L., Wu K. Transposable elements activation triggers necroptosis in mouse embryonic stem cells. Cell. Death. Dis., 2023, vol. 14, no. 3: 184. doi: 10.1038/s41419-023-05705-3
- Jin Y., Liu X., Liang X., Liu J., Liu J., Han Z., Lu Q., Wang K., Meng B., Zhang C., Xu M., Guan J., Ma L., Zhou L. Resveratrol rescues cutaneous radiation-induced DNA damage via a novel AMPK/SIRT7/HMGB1 regulatory axis. Cell. Death. Dis., 2023, vol. 13, no. 10: 847. doi: 10.1038/s41419-022-05281-y
- Johanning G.L., Malouf G.G., Zheng X., Esteva F.J., Weinstein J.N., Wang-Johanning F., Su X. Expression of human endogenous retrovirus-K is strongly associated with the basal-like breast cancer phenotype. Sci. Rep., 2017, vol. 7, no. 1: 41960. doi: 10.1038/srep41960
- Johnson L.B., Saravolatz L.D. Etravirine, a next-generation nonnucleoside reverse-transcriptase inhibitor. Clin. Infect. Dis., 2009, vol. 48, no. 8, pp. 1123–1128. doi: 10.1086/597469
- Justice J.N., Nambiar A.M., Tchkonia T., LeBrasseur N.K., Pascual R., Hashmi S.K., Prata L., Masternak M.M., Kritchevsky S.B., Musi N., Kirkland J.L. Senolytics in idiopathic pulmonary fibrosis: Results from a first-in-human, open-label, pilot study. EBioMedicine, 2019, vol. 40, pp. 554–563. doi: 10.1016/j.ebiom.2018.12.052
- Kanfi Y., Naiman S., Amir G., Peshti V., Zinman G., Nahum L., Bar-Joseph Z., Cohen H.Y. The sirtuin SIRT6 regulates lifespan in male mice. Nature, 2012, vol. 483, no. 7388, pp. 218–221. doi: 10.1038/nature10815
- Kang Q., Guo X., Li T., Yang C., Han J., Jia L., Liu Y., Wang X., Zhang B., Li J., Wen H.L., Li H., Li L. Identification of differentially expressed HERV-K(HML-2) loci in colorectal cancer. Front. Microbiol., 2023, vol. 14: 1192900. doi: 10.3389/fmicb.2023
- Kho Z.Y., Lal S.K. The human gut microbiome — a potential controller of wellness and disease. Front. Microbiol., 2018, vol. 9: 1835. doi: 10.3389/fmicb.2018.01835
- Kim K.M., Noh J.H., Bodogai M., Martindale J.L., Yang X., Indig F.E., Basu S.K., Ohnuma K., Morimoto C., Johnson P.F., Biragyn A., Abdelmohsen K., Gorospe M. Identification of senescent cell surface targetable protein DPP4. Genes Dev., 2017, vol. 31, no. 15, pp. 1529–1534. doi: 10.1101/gad.302570.117
- Kontorinis N., Dieterich D.T. Toxicity of non-nucleoside analogue reverse transcriptase inhibitors. Semin. Liver Dis., 2003, vol. 23, no. 2, pp. 173–182. doi: 10.1055/s-2003-39948
- Kulpa D.A., Moran J.V. Cis-preferential LINE-1 reverse transcriptase activity in ribonucleoprotein particles. Nat. Struct. Mol. Biol., 2006, vol. 13, no. 7, pp. 655–660. doi: 10.1038/nsmb1107
- Kuriyama Y., Shimizu A., Kanai S., Oikawa D., Motegi S.I., Tokunaga F., Ishikawa O. Coordination of retrotransposons and type I interferon with distinct interferon pathways in dermatomyositis, systemic lupus erythematosus and autoimmune blistering disease. Sci. Rep., 2021, vol. 11, no. 1: 23146. doi: 10.1038/s41598-021-02522-6
- Lacey D., Hickey P., Arhatari B.D., O’Reilly L.A., Rohrbeck L., Kiriazis H., Du X.J., Bouillet P. Spontaneous retrotransposon insertion into TNF 3'UTR causes heart valve disease and chronic polyarthritis. Proc. Natl Acad. Sci. USA, 2015, vol. 112, no. 31, pp. 9698–9703. doi: 10.1073/pnas.1508399112
- Larbi A., Pawelec G., Witkowski J.M., Schipper H.M., Derhovanessian E., Goldeck D., Fulop T. Dramatic shifts in circulating CD4 but not CD8 T cell subsets in mild Alzheimer’s disease. J. Alzheimers Dis., 2009, vol. 17, no. 1. pp. 91–103. doi: 10.3233/JAD-2009-1015
- Lelarge V., Capelle R., Oger F., Mathieu T., Le Calvé B. Senolytics: from pharmacological inhibitors to immunotherapies, a promising future for patients’ treatment. NPJ Aging, 2024, vol. 10, no. 1: 12. doi: 10.1038/s41514-024-00138-4
- Li W., Pandya D., Pasternack N., Garcia-Montojo M., Henderson L., Kozak C.A., Nath A. Retroviral Elements in pathophysiology and as therapeutic targets for amyotrophic lateral sclerosis. Neurotherapeutics, 2022, vol. 19, no. 4, pp. 1085–1101. doi: 10.1007/s13311-022-01233-8
- Li X., Li C., Zhang W., Wang Y., Qian P., Huang H. Inflammation and aging: signaling pathways and intervention therapies. Signal. Transduct. Target. Ther., 2023, vol. 8, no. 1: 239. doi: 10.1038/s41392-023-01502-8
- Li X., Yu H., Li D., Liu N. LINE-1 transposable element renaissance in aging and age-related diseases. Ageing Res. Rev., 2024, vol. 100: 102440. doi: 10.1016/j.arr.2024.102440
- Li Y., Chen Y., Zhang N., Fan D. Human endogenous retrovirus K (HERV-K) env in neuronal extracellular vesicles: a new biomarker of motor neuron disease. Amyotroph. Lateral Scler. Frontotemporal Degener., 2022, vol. 23, no. 1–2, pp. 100–107. doi: 10.1080/ 21678421.2021.1936061
- Liang C., Ke Q., Liu Z., Ren J., Zhang W., Hu J., Wang Z., Chen H., Xia K., Lai X., Wang Q., Yang K., Li W., Wu Z., Wang C., Yan H., Jiang X., Ji Z., Ma M., Long X., Wang S., Wang H., Sun H., Belmonte J.C.I., Qu J., Xiang A.P., Liu G.H. BMAL1 moonlighting as a gatekeeper for LINE1 repression and cellular senescence in primates. Nucleic Acids Res., 2022, vol. 50, no. 6, pp. 3323–3347. doi: 10.1093/nar/gkac146
- Liu H., Xu Q., Wufuer H., Li Z., Sun R., Jiang Z., Dou X., Fu Q., Campisi J., Sun Y. Rutin is a potent senomorphic agent to target senescent cells and can improve chemotherapeutic efficacy. Aging Cell, 2024, vol. 23, no. 1: e13921 doi: 10.1111/acel.14183
- Liu X., Liu Z., Wu Z., Ren J., Fan Y., Sun L., Cao G., Niu Y., Zhang B., Ji Q., Jiang X., Wang C., Wang Q., Ji Z., Li L., Esteban C.R., Yan K., Li W., Cai Y., Wang S., Zheng A., Zhang Y.E., Tan S., Cai Y., Song M., Lu F., Tang F., Ji W., Zhou Q., Belmonte J.C.I., Zhang W., Qu J., Liu G.H. Resurrection of endogenous retroviruses during aging reinforces senescence. Cell, 2023, vol. 186, no. 2, pp. 287–304.e26. doi: 10.1016/j.cell.2022.12.017
- López-Gil L., Pascual-Ahuir A., Proft M. Genomic instability and epigenetic changes during aging. Int. J. Mol. Sci., 2023, vol. 24, no. 18: 14279. doi: 10.3390/ijms241814279
- Martínez E., Blanco J.L., Arnaiz J.A., Pérez-Cuevas J.B., Mocroft A., Cruceta A., Marcos M.A., Milinkovic A., García-Viejo M.A., Mallolas J., Carné X., Phillips A., Gatell J.M. Hepatotoxicity in HIV-1-infected patients receiving nevirapine-containing antiretroviral therapy. AIDS, 2001, vol. 15, no. 10, pp. 1261–1268. doi: 10.1097/00002030-200107060-00007
- Martyshkina Y.S., Tereshchenko V.P., Bogdanova D.A., Rybtsov S.A. Reliable hallmarks and biomarkers of senescent lymphocytes. Int. J. Mol. Sci., 2023, vol. 24, no. 21: 15653. doi: 10.3390/ijms242115653
- Matveeva K., Vasilieva M., Minskaia E., Rybtsov S. Shevyrev, D. T-cell immunity against senescence: potential role and perspectives. Front. Immunol., 2024, vol. 15: 1360109. doi: 10.3389/fimmu.2024.1360109
- Merchut-Maya J.M., Bartek J. Jr., Bartkova J., Galanos P., Pantalone M.R., Lee M., Cui H.L., Shilling P.J., Brøchner C.B., Broholm H., Maya-Mendoza A., Söderberg-Naucler C., Bartek J. Human cytomegalovirus hijacks host stress response fueling replication stress and genome instability. Cell. Death Differ., 2022, vol. 29, no. 8, pp. 1639–1653. doi: 10.1038/s41418-022-00953-w
- Mislak A.C., Frey K.M., Bollini M., Jorgensen W.L., Anderson K.S. A Mechanistic and Structural Investigation of Modified Derivatives of the Diaryltriazine Class of NNRTIs Targeting HIV-1 Reverse Transcriptase. Biochim. Biophys. Acta, 2014, vol. 1840, no. 7, pp. 2203–2211. doi: 10.1016/j.bbagen.2014.04.0010
- Mutlib A.E., Gerson R.J., Meunier P.C., Haley P.J., Chen H., Gan L.S., Davies M.H., Gemzik B., Christ D.D., Krahn D.F., Markwalder J.A., Seitz S.P., Robertson R.T., Miwa G.T. The species-dependent metabolism of efavirenz produces a nephrotoxic glutathione conjugate in rats. Toxicol. Appl. Pharmacol., 2000, vol. 169, no. 1, pp. 102–113. doi: 10.1006/taap.2000.9055
- Mitchell M.L., Son J.C., Guo H., Im Y.A., Cho E.J., Wang J., Hayes J., Wang M., Paul A., Lansdon E.B., Chen J.M., Graupe D., Rhodes G., He G.X., Geleziunas R., Xu L., Kim C.U. N1-Alkyl pyrimidinediones as non-nucleoside inhibitors of HIV-1 reverse transcriptase. Bioorg. Med. Chem. Lett., 2010, vol. 20, no. 5, pp. 1589–1592. doi: 10.1016/j.bmcl.2010.01.085
- Neidhart M., Rethage J., Kuchen S., Künzler P., Crowl R.M., Billingham M.E., Gay R.E., Gay S. Retrotransposable L1 elements expressed in rheumatoid arthritis synovial tissue: association with genomic DNA hypomethylation and influence on gene expression. Arthritis Rheum., 2000, vol. 43, no. 12, pp. 2634–2647. doi: 10.1002/1529-0131(200012)43:12<2634::AID-ANR3>3.0.CO;2-1
- Ng K.W., Boumelha J., Enfield K.S.S., Almagro J., Cha H., Pich O., Karasaki T., Moore D.A., Salgado R., Sivakumar M., Young G., Molina-Arcas M., de Carné Trécesson S., Anastasiou P., Fendler A., Au L., Shepherd S.T.C., Martínez-Ruiz C., Puttick C., Black J.R.M., Watkins T.B.K., Kim H., Shim S., Faulkner N., Attig J., Veeriah S., Magno N., Ward S., Frankell A.M., Al Bakir M., Lim E.L., Hill M.S., Wilson G.A., Cook D.E., Birkbak N.J., Behrens A., Yousaf N., Popat S., Hackshaw A.; TRACERx Consortium; CAPTURE Consortium; Hiley C.T., Litchfield K., McGranahan N., Jamal-Hanjani M., Larkin J., Lee S.H., Turajlic S., Swanton C., Downward J., Kassiotis G. Antibodies against endogenous retroviruses promote lung cancer immunotherapy. Nature, 2023, vol. 616, no. 7957, pp. 563–573. doi: 10.1038/s41586-023-05771-9
- Niedernhofer L.J., Gurkar A.U., Wang Y., Vijg J., Hoeijmakers J.H.J., Robbins P.D. Nuclear Genomic Instability and Aging. Annu. Rev. Biochem., 2018, vol. 87, no. 1, pp. 295–322. doi: 10.1146/annurev-biochem-062917-012239
- Odama M., Maegawa E., Suzuki K., Fujii Y., Maeda R., Murakami S., Ito T. Effects of betulinic acid on the proliferation, cellular senescence, and type 1 interferon-related signaling pathways in human dermal fibroblasts. J. Agric. Food. Chem., 2023, vol. 71, no. 18, pp. 6935–6943. doi: 10.1021/acs.jafc.2c08563
- O’Donnell J.S., Hunt S.K., Chappell K.J. Integrated molecular and immunological features of human T-lymphotropic virus type 1 infection and disease progression to adult T-cell leukaemia or lymphoma. Lancet Haematol., 2023, vol. 10, no. 7, pp. e539–e548. doi: 10.1016/S2352-3026(23)00087-X
- Ostrowski L.A., Hall A.C., Szafranski K.J., Oshidari R., Abraham K.J., Chan J.N.Y., Krustev C., Zhang K., Wang A., Liu Y., Guo R., Mekhail K. Conserved Pbp1/Ataxin-2 regulates retrotransposon activity and connects polyglutamine expansion-driven protein aggregation to lifespan-controlling rDNA repeats. Commun. Biol., 2018, vol. 1, no. 1: 187. doi: 10.1038/s42003-018-0187-3
- Pastuzyn E.D., Day C.E., Kearns R.B., Kyrke-Smith M., Taibi A.V., McCormick J., Yoder N., Belnap D.M., Erlendsson S., Morado D.R., Briggs J.A.G., Feschotte C., Shepherd J.D. The neuronal gene arc encodes a repurposed retrotransposon gag protein that mediates intercellular RNA transfer. Cell, 2018, vol. 172, no. 1–2, pp. 275–288. doi: 10.1016/j.cell.2017.12.024
- Pau A.K., George J.M. Antiretroviral therapy: current drugs. Infect. Dis. Clin. North Am., 2014, vol. 28, no. 3, pp. 371–402. doi: 10.1016/j.idc.2014.06.001
- Pawelec G. Hallmarks of human “immunosenescence”: adaptation or dysregulation? Immun. Ageing, 2012, vol. 9, no. 1: 15. doi: 10.1186/1742-4933-9-15
- Peng Y., Zong Y., Wang D., Chen J., Chen Z.S., Peng F., Liu Z. Current drugs for HIV-1: from challenges to potential in HIV/AIDS. Front. Pharmacol., 2023, vol. 14: 1294966. doi: 10.3389/fphar.2023.1294966
- Pessoa J., Nóbrega-Pereira S., de Jesus B.B. Senescent cell-derived vaccines: a new concept towards an immune response against cancer and aging? Aging (Albany NY), 2024, vol. 16, no. 12, pp. 10657–10665. doi: 10.18632/aging.205975
- Petr M.A., Tulika T., Carmona-Marin L.M., Scheibye-Knudsen M. Protecting the aging genome. Trends. Cell. Biol., 2020, vol. 30, no. 2, pp. 117–132. doi: 1016/j.tcb.2019.12.00110
- Phan J., Chen B., Zhao Z., Allies G., Iannaccone A., Paul A., Cansiz F., Spina A., Leven A.S., Gellhaus A., Schadendorf D., Kimmig R., Mettlen M., Tasdogan A., Morrison S.J. Retrotransposons are co-opted to activate hematopoietic stem cells and erythropoiesis. Science, 2024, vol. 386, no. 6722: eado6836. doi: 10.1126/science.ado6836
- Pich O., Reyes-Salazar I., Gonzalez-Perez A., Lopez-Bigas N. Discovering the drivers of clonal hematopoiesis. Nat. Commun., 2022, vol. 13, no. 1: 4267. doi: 10.1038/s41467-022-31878-0
- Pilié P.G., Tang C., Mills G.B., Yap T.A. State-of-the-art strategies for targeting the DNA damage response in cancer. Nat. Rev. Clin. Oncol., 2019, vol. 16, no. 2, pp. 81–104. doi: 10.1038/s41571-018-0114-z
- Pradhan R.K., Ramakrishna W. Transposons: Unexpected players in cancer. Gene, 2022, vol. 808: 145975. doi: 10.1016/j.gene.2021.145975
- Prati B., Marangoni B., Boccardo E. Human papillomavirus and genome instability: from productive infection to cancer. Clinics (Sao Paulo), 2018, vol. 73: e539s. doi: 10.6061/clinics/2018/e539s
- Pukhalskaia T.V., Yurakova T.R., Bogdanova D.A., Demidov O.N. Tumor-associated senescent macrophages, their markers, and their role in tumor microenvironment. Biochemistry (Mosc.), 2024, vol. 89, no. 5, pp. 839–852. doi: 10.1134/S0006297924050055
- Raviola S., Griffante G., Iannucci A., Chandel S., Lo Cigno I., Lacarbonara D., Caneparo V., Pasquero S., Favero F., Corà D., Trisolini E., Boldorini R., Cantaluppi V., Landolfo S., Gariglio M., De Andrea M. Human cytomegalovirus infection triggers a paracrine senescence loop in renal epithelial cells. Commun. Biol., 2024, vol. 7, no. 1: 292. doi: 10.1038/s42003-024-05957-5
- Reis B.S., Jungbluth A.A., Frosina D., Holz M., Ritter E., Nakayama E., Ishida T., Obata Y., Carver B., Scher H., Scardino P.T., Slovin S., Subudhi S.K., Reuter V.E., Savage C., Allison J.P., Melamed J., Jäger E., Ritter G., Old L.J., Gnjatic S. Prostate cancer progression correlates with increased humoral immune response to a human endogenous retrovirus GAG protein. Clin. Cancer Res., 2013, vol. 19, no. 22, pp. 6112–6125. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-12-3580
- Reyes A., Ortiz G., Duarte L.F., Fernández C., Hernández-Armengol R., Palacios P.A., Prado Y., Andrade C.A., Rodriguez-Guilarte L., Kalergis A.M., Simon F., Carreño L.J., Riedel C.A., Cáceres M., González P.A. Contribution of viral and bacterial infections to senescence and immunosenescence. Front. Cell. Infect. Microbiol., 2023, vol. 13: 1229098. doi: 10.3389/fcimb.2023.1229098
- Riaz Rajoka M.S., Zhao H., Li N., Lu Y., Lian Z., Shao D., Jin M., Li Q., Zhao L., Shi J. Origination, change, and modulation of geriatric disease-related gut microbiota during life. Appl Microbiol. Biotechnol., 2018, vol. 102, no. 19, pp. 8275–8289. doi: 10.1007/s00253-018-9264-2
- Rivas S.R., Valdez M.J.M., Govindarajan V., Seetharam D., Doucet-O’Hare T.T., Heiss J.D., Shah A.H. The role of HERV-K in cancer stemness. Viruses, 2022, vol. 14, no. 9: 2019. doi: 10.3390/v14092019
- Robinson W.H, Steinman L. Epstein–Barr virus and multiple sclerosis. Science, 2022, vol. 375, no. 6578, pp. 264–265. doi: 10.1126/science.abm7930
- Rodić N., Sharma R., Sharma R., Zampella J., Dai L., Taylor M.S., Hruban R.H., Iacobuzio-Donahue C.A., Maitra A., Torbenson M.S., Goggins M., Shih IeM., Duffield A.S., Montgomery E.A., Gabrielson E., Netto G.J., Lotan T.L., De Marzo A.M., Westra W., Binder Z.A., Orr B.A., Gallia G.L., Eberhart C.G., Boeke J.D., Harris C.R., Burns K.H. Long interspersed element-1 protein expression is a hallmark of many human cancers. Am. J. Pathol., 2014, vol. 184, no. 5, pp. 1280–1286. doi: 10.1016/j.ajpath.2014.01.007
- Ross J.B., Myers L.M., Noh J.J., Collins M.M., Carmody A.B., Messer R.J., Dhuey E., Hasenkrug K.J., Weissman I.L. Depleting myeloid-biased haematopoietic stem cells rejuvenates aged immunity. Nature, 2024, vol. 628, no. 8006, pp. 162–170. doi: 10.1038/s41586-024-07238-x
- Rowe H.M., Kapopoulou A., Corsinotti A., Fasching L., Macfarlan T.S., Tarabay Y., Viville S., Jakobsson J., Pfaff S.L., Trono D. TRIM28 repression of retrotransposon-based enhancers is necessary to preserve transcriptional dynamics in embryonic stem cells. Genome Res., 2013, vol. 23, no. 3, pp. 452–461. doi: 10.1101/gr.147678.112
- Rybtsova N., Berezina T.N., Rybtsov S. Molecular markers of blood cell populations can help estimate aging of the immune system. Int. J. Mol. Sci., 2023, vol. 24, no. 6: 5708. doi: 10.3390/ijms24065708
- Sagiv A., Burton D.G., Moshayev Z., Vadai E., Wensveen F., Ben-Dor S., Golani O., Polic B., Krizhanovsky V. NKG2D ligands mediate immunosurveillance of senescent cells. Aging (Albany NY), 2016, vol. 8, no. 2, pp. 328–344. doi: 10.18632/aging.100897
- Sbardella G., Bartolini S., Castellano S., Artico M., Paesano N., Rotili D., Spadafora C., Mai A. 6-alkylthio-4-[1-(2,6-difluorophenyl)alkyl]-1H-[1,3,5]triazin-2-ones (ADATs): novel regulators of cell differentiation and proliferation. ChemMedChem., 2006, vol. 1, no. 10, pp. 1073–1080. doi: 10.1002/cmdc.200600139
- Sbardella G., Mai A., Bartolini S., Castellano S., Cirilli R., Rotili D., Milite C., Santoriello M., Orlando S., Sciamanna I., Serafino A., Lavia P., Spadafora C. Modulation of cell differentiation, proliferation, and tumor growth by dihydrobenzyloxopyrimidine non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors. J. Med. Chem., 2011, vol. 54, no. 16, pp. 5927–5936. doi: 10.1021/jm200734j
- Schoepf I.C., Esteban-Cantos A., Thorball C.W., Rodés B., Reiss P., Rodríguez-Centeno J., Riebensahm C., Braun D.L., Marzolini C., Seneghini M., Bernasconi E., Cavassini M., Buvelot H., Thurnheer M.C., Kouyos R.D., Fellay J., Günthard H.F., Arribas J.R., Ledergerber B., Tarr P.E. Epigenetic ageing accelerates before antiretroviral therapy and decelerates after viral suppression in people with HIV in Switzerland: a longitudinal study over 17 years. Lancet. Healthy. Longev., 2023, vol. 4, no. 5, pp. e211–e218. doi: 10.1016/S2666-7568(23)00037-5
- Sciamanna I., Landriscina M., Pittoggi C., Quirino M., Mearelli C., Beraldi R., Mattei E., Serafino A., Cassano A., Sinibaldi-Vallebona P., Garaci E., Barone C., Spadafora C. Inhibition of endogenous reverse transcriptase antagonizes human tumor growth. Oncogene, 2005, vol. 24, no. 24, pp. 3923–3931. doi: 10.1038/sj.onc.1208562
- Sciamanna I., Vitullo P., Curatolo A., Spadafora C. A reverse transcriptase-dependent mechanism is essential for murine preimplantation development. Genes (Basel), 2011, vol. 2, no. 2, pp. 360–373. doi: 10.3390/genes2020360
- Sharma A.M., Li Y., Novalen M., Hayes M.A., Uetrecht J. Bioactivation of nevirapine to a reactive quinone methide: implications for liver injury. Chem. Res. Toxicol., 2012, vol. 25, no. 8, pp. 1708–1719. doi: 10.1021/tx300172s
- Shevyrev D., Tereshchenko V., Berezina T.N., Rybtsov S. Hematopoietic stem cells and the immune system in development and aging. Int. J. Mol. Sci., 2023, vol. 24, no. 6: 5862. doi: 10.3390/ijms24065862
- Simon M., Van Meter M., Ablaeva J., Ke Z., Gonzalez R.S., Taguchi T., De Cecco M., Leonova K.I., Kogan V., Helfand S.L., Neretti N., Roichman A., Cohen H.Y., Meer M.V., Gladyshev V.N., Antoch M.P., Gudkov A.V., Sedivy J.M., Seluanov A., Gorbunova V. LINE1 derepression in aged wild-type and SIRT6-deficient mice drives inflammation. Cell Metab., 2019, vol. 29, no. 4, pp. 871–885. doi: 10.1016/j.cmet.2019.02.014
- Singh M., Cai H., Bunse M., Feschotte C., Izsvák Z. Human Endogenous Retrovirus K Rec forms a regulatory loop with MITF that opposes the progression of melanoma to an invasive stage. Viruses, 2020, vol. 12, no. 11: 1303. doi: 10.3390/v12111303
- Smer-Barreto V., Quintanilla A., Elliott R.J.R., Dawson J.C., Sun J., Campa V.M., Lorente-Macías Á., Unciti-Broceta A., Carragher N.O., Acosta J.C., Oyarzún D.A. Discovery of senolytics using machine learning. Nat. Commun., 2023, vol. 14, no. 1: 3445. doi: 10.1038/s41467-023-39120-1
- Solana R., Tarazona R., Aiello A.E., Akbar A.N., Appay V., Beswick M., Bosch J.A., Campos C., Cantisán S., Cicin-Sain L., Derhovanessian E., Ferrando-Martínez S., Frasca D., Fulöp T., Govind S., Grubeck-Loebenstein B., Hill A., Hurme M., Kern F., Larbi A., López-Botet M., Maier A.B., McElhaney J.E., Moss P., Naumova E., Nikolich-Zugich J., Pera A., Rector J.L., Riddell N., Sanchez-Correa B., Sansoni P., Sauce D., van Lier R., Wang G.C., Wills M.R., Zieliński M., Pawelec G. CMV and Immunosenescence: from basics to clinics. Immun. Ageing, 2012, vol. 9, no. 1: 23. doi: 10.1186/1742-4933-9-23
- Song D.G., Ye Q., Santoro S., Fang C., Best A., Powell D.J. Jr. Chimeric NKG2D CAR-expressing T cell-mediated attack of human ovarian cancer is enhanced by histone deacetylase inhibition. Hum. Gene Ther., 2013, vol. 24, no. 3, pp. 295–305. doi: 10.1089/hum.2012.143
- Spadafora C. A LINE-1-encoded reverse transcriptase-dependent regulatory mechanism is active in embryogenesis and tumorigenesis. Ann. N.Y. Acad. Sci., 2015, vol., 1341, no. 1, pp. 164–171. doi: 10.1111/nyas.12637
- Stoeger T., Grant R.A., McQuattie-Pimentel A.C., Anekalla K.R., Liu S.S., Tejedor-Navarro H., Singer B.D., Abdala-Valencia H., Schwake M., Tetreault M.P., Perlman H., Balch W.E., Chandel N.S., Ridge K.M., Sznajder J.I., Morimoto R.I., Misharin A.V., Budinger G.R.S., Nunes Amaral L.A. Aging is associated with a systemic length-associated transcriptome imbalance. Nat. Aging, 2022, vol. 2, no. 12, pp. 1191–1206. doi: 10.1038/s43587-022-00317-6
- Su B., Gao G., Wang M., Lu Y., Li L., Chen C., Chen Y., Song C., Yu F., Li Y., Liu Y., Luo Y., He H., Cheng C., Xu L., Zhang T., Sun L., Liu A., Xia W., Qin Y., Zhao Q., Wei H., Cai W., Chen Y., Zhang F., Wu H. Efficacy and safety of ainuovirine versus efavirenz combination therapies with lamivudine/tenofovir disoproxil fumarate for medication of treatment-naïve HIV-1-positive adults: week 48 results of a randomized controlled phase 3 clinical trial followed by an open-label setting until week 96. Lancet Reg. Health West Pac., 2023, vol. 36: 100769. doi: 10.1016/j.lanwpc.2023.100769
- Sun J.X., Xu J.Z., Liu C.Q., An Y., Xu M.Y., Zhong X.Y., Zeng N., Ma S.Y., He H.D., Hu J., Liu Z., Wang S.G., Xia Q.D. The association between human papillomavirus and bladder cancer: Evidence from meta-analysis and two-sample mendelian randomization. J. Med. Virol., 2023, vol. 95, no. 1: e28208 doi: 10.1002/jmv.28208
- Taglialegna, A. A virus hastens ageing in flies. Nat. Rev. Microbiol., 2024, vol. 22, no. 8, pp. 455–455. doi: 10.1038/s41579-024-01070-w
- Ukadike K.C., Najjar R., Ni K., Laine A., Wang X., Bays A., Taylor M.S., LaCava J., Mustelin T. Expression of L1 retrotransposons in granulocytes from patients with active systemic lupus erythematosus. Mob. DNA, 2023, vol. 14, no. 1: 5. doi: 10.1186/s13100-023-00293-7
- Vijg J., Montagna C. Genome instability and aging: Cause or effect? Translational Medicine of Aging, 2017, vol. 1, pp. 5–11. doi: 10.33029/1816-2134-2024-45-2-221-234
- Voronina M.V., Frolova A.S., Kolesova E. The intricate balance between life and death: ROS, cathepsins, and their interplay in cell death and autophagy. Int. J. Mol. Sci., 2024, vol. 25, no. 7: 4087. doi: 10.3390/ijms25074087
- Wahl D., Smith M.E., McEntee C.M., Cavalier A.N., Osburn S.C., Burke S.D., Grant R.A., Nerguizian D., Lark D.S., Link C.D., LaRocca T.J. The reverse transcriptase inhibitor 3TC protects against age-related cognitive dysfunction. Aging Cell, 2023, vol. 22, no. 5: e13798. doi: 10.1111/acel.13798
- Wang T., Medynets M., Johnson K.R., Doucet-O’Hare T.T., DiSanza B., Li W., Xu Y., Bagnell A., Tyagi R., Sampson K., Malik N., Steiner J., Hadegan A., Kowalak J., O’Malley J., Maric D., Nath A. Regulation of stem cell function and neuronal differentiation by HERV-K via mTOR pathway. Proc. Natl Acad. Sci. USA, 2020, vol. 117, no. 30, pp. 17842–17853. doi: 10.1073/pnas.2002427117
- Wells J.N., Chang N.C., McCormick J., Coleman C., Ramos N., Jin B., Feschotte C. Transposable elements drive the evolution of metazoan zinc finger genes. Genome Res., 2023, vol. 33, no. 8, pp. 1325–1339. doi: 10.1101/gr.277966.123
- Wilmoth J.R. Demography of longevity: past, present, and future trends. Exp. Gerontol., 2000, vol. 35, no. 9–10, pp. 1111–1129. doi: 10.1016/s0531-5565(00)00194-7
- Wit F.W.N.M., Lange J.M.A., Volberding P.A. New HIV drug development. HIV/AIDS Medicine, 2008, pp. 123–134. doi: 10.1016/B978-1-4160-2882-6.50016-2
- Wong Y., Meehan M.T., Burrows S.R., Doolan D.L., Miles J.J. Estimating the global burden of Epstein–Barr virus-related cancers. J. Cancer Res. Clin. Oncol., 2022, vol. 148, no. 1, pp. 31–46. doi: 10.1007/s00432-021-03824-y
- Wu J., Wu C., Xing F., Cao L., Zeng W., Guo L., Li P., Zhong Y., Jiang H., Luo M., Shi G., Bu L., Ji Y., Hou P., Peng H., Huang J., Li C., Guo D. Endogenous reverse transcriptase and RNase H-mediated antiviral mechanism in embryonic stem cells. Cell Res., 2021, vol. 31, no. 9, pp. 998–1010. doi: 10.1038/s41422-021-00524-7
- Yang B., Li T., Wang Z., Zhu Y., Niu K., Hu S., Lin Z., Zheng X., Jin X., Shen C. Ruxolitinib-based senomorphic therapy mitigates cardiomyocyte senescence in septic cardiomyopathy by inhibiting the JAK2/STAT3 signaling pathway. Int. J. Biol. Sci., 2024, vol. 20, no. 11, pp. 4314–4340. doi: 10.7150/ijbs.96489
- Yoshida S., Nakagami H., Hayashi H., Ikeda Y., Sun J., Tenma A., Tomioka H., Kawano T., Shimamura M., Morishita R., Rakugi H. The CD153 vaccine is a senotherapeutic option for preventing the accumulation of senescent T cells in mice. Nat. Commun., 2020, vol. 11, no. 1: 2482. doi: 10.1038/s41467-020-16347-w
- Zhang L., Pitcher L.E., Prahalad V., Niedernhofer L.J., Robbins P.D. Targeting cellular senescence with senotherapeutics: senolytics and senomorphics. FEBS J., 2023, vol. 290, no. 5, pp. 1362–1383. doi: 10.1111/febs.16350
- Zhong L., Zhao Q., Zeng M.S., Zhang X. Prophylactic vaccines against Epstein–Barr virus. Lancet, 2024, vol. 404, no. 10455: 845. doi: 10.1016/S0140-6736(24)01608-8
- Zhou L., Mitra R., Atkinson P.W., Hickman A.B., Dyda F., Craig N.L. Transposition of hAT elements links transposable elements and V(D)J recombination. Nature, 2004, vol. 432, no. 7020, pp. 995–1001. doi: 10.1038/nature03157
- Zlotorynski E. Younger endogenous retroviruses make us older. Nat. Rev. Mol. Cell Biol., 2023, vol. 24: 165. doi: 10.1038/s41580-023-00580-4
Дополнительные файлы