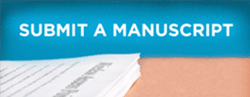Early phases of tuberculosis infection: immune response and host genetic control
- Authors: Kondratieva T.K.1, Kondratieva E.V.1, Apt A.S.1
-
Affiliations:
- Central TB Research Institute
- Issue: Vol 15, No 3 (2025)
- Pages: 431-445
- Section: REVIEWS
- Submitted: 03.03.2025
- Accepted: 25.03.2025
- Published: 15.09.2025
- URL: https://iimmun.ru/iimm/article/view/17880
- DOI: https://doi.org/10.15789/2220-7619-EPO-17880
- ID: 17880
Cite item
Full Text
Abstract
Tuberculosis (TB), primarily pulmonary TB, continues to pose a serious threat to public health, despite intensive studies investigating related pathogenesis, as well as development and testing of novel anti-TB drugs and vaccines. One of the reasons for such a slow progress in establishing effective TB spreading control as well as improving TB prophylaxis and treatment is recognized to be due to substantial shortage of our understanding mechanisms on immune response to and genetic control of the infection, as well as key defects interfering with ability of the host to combat progressive disease. Primarily, it is accounted for by the gaps in our knowledge on early phases of infection, because clinicians virtually never experience them in real-world practice, whilst the majority of existing animal models fail to adequately mimic the events occurring in human TB-infected lung. In this review, we briefly outline some unresolved issues related to TB immunity and genetics, specifically focusing at the first month of infection. Herein, we describe interactions between mycobacteria and diverse phagocyte types in the lung tissue as well as the consequences of mycobacterial phagocytosis by alveolar and interstitial macrophages, neutrophils, eosinophils and dendritic cells. Next, the issues concerning tuberculous granuloma classification and relevant functional diversity as well as difference in immunologist and pathologist viewpoint on nature of primary tuberculous lesion are discussed. Finally, the sequence of innate and adaptive immune reactions against mycobacteria, as well as T-cell — neutrophil interplay during TB course gains special attention. Based on personal studies assessing immune response dynamics and expression of immune activation/exhaustion markers on CD4+ T-cells in MHC II allele-specific TB-infected mice we discuss key phenotypes between genetically susceptible and relatively resistant animals.
Full Text
Введение
Принято считать, что туберкулезная инфекция (ТБ) у человека возникает после вдыхания аэрозоля, который образуется при кашле и чихании больного ТБ, выделяющего бактерии [73]. По-видимому, количество микобактерий (чаще всего Mycobacterium tuberculosis) в такой дозе-индукторе инфекции очень невелико и по имеющимся оценкам колеблется в пределах 1–5 жизнеспособных клеток [8]. Согласно общепринятой сейчас точке зрения, микобактерии, после вдыхания достигшие альвеол, захватываются преимущественно резидентными альвеолярными макрофагами (реже дендритными клетками), и именно это событие начинает сложнейший процесс хронического заболевания [12]. Несмотря на то что варианты развития самых ранних фаз инфекции играют первостепенную роль в ее последующей динамике и тяжести течения (см. ссылку [19] и текст ниже), наши знания о первом этапе ТБ у человека остаются очень неполными. Причины этого вполне очевидны. Клиницисты практически никогда не сталкиваются со случаями сверхраннего ТБ, хотя бы потому, что инфекция на этой стадии никак не проявляется симптоматически. Адаптивный иммунный ответ на микобактерии, на котором построены диагностические тесты in vivo (кожные пробы) и in vitro (тесты на интерферон-γ, IFNγ), также не развивается до обнаружимого уровня ранее 3–4 недель после заражения [94]. Вполне естественно, что в этой области гораздо больше точных знаний получено с помощью экспериментальных моделей ТБ с четким контролем дозы заражения и времени начала инфекции.
Проблеме раннего ТБ посвящено множество работ, в том числе несколько весьма обстоятельных обзоров [19, 23, 27, 89], но в них не отражены многие данные, полученные в новых экспериментальных моделях современными методами оценки профиля экспрессии генов, классической генетики и молекулярной биологии, поэтому написание еще одной обзорной работы видится нам вполне оправданным. В данном обзоре мы обсуждаем некоторые уже устоявшиеся представления и суммируем недавно полученные данные, в том числе полученные в нашей лаборатории. Как будет обосновано ниже, к ранней фазе ТБ разумно отнести и состояние status quo, в котором иммунная система встречает возбудителя, и события первого месяца после заражения, в течение которого определяются основные особенности адаптивного иммунного ответа, присоединяющегося к врожденному.
В предисловии хотелось бы сделать одну оговорку. Чаще всего, в обзорных статьях принято ссылаться на конкретные результаты и соответствующие статьи, а не на другие обзоры. Выбранная нами тема настолько «густо населена», что для ее приблизительного охвата потребовалось бы процитировать не менее тысячи источников, что не оставило бы места для обсуждения некоторых важных проблем, пока не получивших достаточного внимания. Поэтому мы вынужденно включили в список цитируемых работ довольно много обзоров других авторов, чтобы иметь возможность затронуть некоторые менее очевидные аспекты проблемы и изложить собственную точку зрения.
Ворота инфекции
Альвеолярный эпителий
Во время дыхания весь альвеолярный эпителий легких вступает в контакт с вдыхаемыми патогенными и непатогенными микроорганизмами. Помимо механической барьерной и респираторной функций, альвеолярный эпителий, в частности входящие в его состав кубические клетки AEC2 (alveolar epithelial cells type 2), выполняет множество других. Сюда относятся распознавание микроорганизмов, секреция биологически активных молекул, например, сурфактанта, дефенсинов, цитокинов и хемокинов, и презентация антигенов Т-клеткам иммунной системы [27, 77, 87, 89]. Имея в виду эти свойства, а также то, что эпителиальные клетки занимают значительно большую площадь альвеолярной поверхности по сравнению с профессиональными фагоцитами, легко сделать вывод о потенциально важной роли клеток альвеолярного эпителия в инициации инфекционных процессов, в том числе при ТБ [10]. Этот вывод находит множество подтверждений в той части, которая касается первичного обнаружения инфекции, обмена биохимическими сигналами с соседствующими альвеолярными макрофагами, а позднее и с другими клетками иммунной системы [77], но в меньшей степени относится к самому процессу проникновения микобактерий в легочную ткань.
В сравнительно давних исследованиях неоднократно сообщалось о миграции микобактерий непосредственно через альвеолярный эпителий [10, 11, 67], но большая часть соответствующих экспериментов была выполнена на клеточных линиях, и не было проверено, насколько сделанные заключения справедливы для собственно клеток эпителия. Позднее, мигрирующие клетки M. tuberculosis были обнаружены внутри клеток альвеолярного эпителия, но это сопровождалось гибелью последних, поэтому был сделан вывод, что для непосредственного проникновения в ткань легкого без участия фагоцитов микобактериям необходимо механически разрушить эпителиальный барьер [84]. Кроме того, с использованием сравнительно недавно разработанной трехмерной культуры легочной ткани [22] было показано, что при отсутствии в культуре профессиональных фагоцитов микобактерии двух вирулентных видов с разной инвазивной способностью, M. tuberculosis и M. abscessus, крайне слабо проникают в ткань, размножаясь почти исключительно в культуральной среде [44]. Таким образом, согласно современной точке зрения, при ТБ клетки альвеолярного эпителия, как и эндотелиальные клетки сосудов [89], играют очень важную роль в ранней регуляции ответа хозяина на инфекцию, но их участие в первичной инвазии возбудителя, скорее всего, второстепенно.
Резидентные альвеолярные и интерстициальные макрофаги
Представления о биологии этих важнейших для инвазии микобактерий в ткань легкого клеток миелоидного ряда радикально изменились в течение последних 15 лет. Как и другие резидентные макрофаги органов и тканей, альвеолярные макрофаги (АМ) существенно отличаются от дифференцирующихся из циркулирующих моноцитов периферической крови макрофагов по онтологии в эмбриогенезе, путям развития и иммунологическим функциям [41]. В частности, в экспериментальной модели на мышах с генетически выключенным геном для ключевого аттрактанта моноцитов CCR2 было показано, что количество АМ в дыхательных путях и легких не зависит от мобилизации циркулирующих моноцитов в респираторный тракт [39]. Более того, опыты на генетически различных мышах-парабионтах (животные с сообщающимся кровотоком, которых используют для оценки степени химеризма в иммунной системе) показали, что циркулирующие моноциты редко оказываются предшественниками АМ [40]. Поскольку АМ отличаются от других макрофагов экспрессией поверхностных маркеров Siglec-F и CD11c [53], их можно определять методами цитофлуориметрии и избирательно воздействовать на них антителами.
В рамках этой статьи мы не будем вдаваться в подробности эмбриогенеза, метаболизма и иммунологической активности при воспалении или его отсутствии, отличающих АМ от привлеченных в легкое интерстициальных макрофагов (ИМ). Заинтересованный читатель может найти множество таких данных в довольно свежем обзоре [100]. Следует отметить лишь одно важнейшее в контексте обсуждаемой здесь темы отличие в метаболизме этих морфологически сходных, но онтологически различных, клеток. Тщательно выполненная экспериментальная работа лаборатории Д. Рассела [42], в которой были использованы штаммы M. tuberculosis с вставленными генами-репортерами, кодирующими флуоресцентные белки, показала следующее. Через 2 недели после заражения мышей внутри АМ размножение бактерий идет быстрее, а маркеры бактериального стресса выражены слабее, чем внутри ИМ. Более того, удаление AM in vivo помощью специфических антител снижает количество микобактерий в легких, а удаление ИМ повышает. Анализ профиля экспрессии генов в макрофагах двух типов показал, что у АМ метаболическая активность сдвинута в сторону окисления жирных кислот, а у ИМ — в сторону гликолиза, причем воздействие химических ингибиторов двух этих процессов меняло параметры течения инфекции в предсказанную сторону.
Позднее эта группа исследователей стала использовать разные варианты оценки профиля экспрессии генов в цельной ткани легкого (RNA-seq) и в отдельных отсортированных легочных макрофагах (scRNA-seq и multi-model scRNA-seq). В результате была получена детальная картина ранних взаимодействий микобактерий с легочными макрофагами. Удалось установить, что популяции и АМ, и ИМ гетерогенны и обе состоят из клеток с разным онтогенезом [79]. Более того, в моделях на мышах было показано, что первой инфицируется микобактериями популяция АМ, которая отличается отсутствием гидролазы CD38 (фенотип CD38–) и плохо ограничивает рост микобактерий. Даже через 2 недели после заражения эта популяция составляет около 70% всех легочных макрофагов. По мере прогрессирования инфекции к первичному очагу приходит все больше макрофагов с фенотипом CD38+, причем в состав этой популяции входят и резидентные легочные клетки (прошедшие активацию под действием неизвестных стимулов? — Авторы), и клетки, дифференцирующиеся из приходящих моноцитов. Через 4 недели после заражения макрофаги CD38+ составляют уже около 90% популяции. Они-то и становятся основным фактором воспаления и сдерживания роста микобактерий, причем их способность инициировать воспалительный ответ обусловлена особой врожденной организацией хроматина [80]. Другими словами, эти клетки запрограммированы на воспалительный ответ на эпигенетическом уровне.
По нашему мнению, эти работы позволяют предположить, что длительная параллельная эволюция микобактерий и их теплокровных хозяев, подверженных легочным инфекциям, то есть птиц и млекопитающих, привела к реализации следующего сценария. Отбор снабдил организм хозяина системой фагоцитов (АМ), заселяющих ткани респираторного тракта, мигрируя из желточного мешка и эмбриональной печени, еще во время эмбриогенеза [100]. Эти клетки защищают хозяина от микроорганизмов, начиная с первых вдохов, тем более что АМ — очень активные фагоциты. У таких древнейших паразитов, как микобактерии [38], несмотря на их медленное размножение, эволюция отобрала, по-видимому, два признака. Во-первых, это сама способность выживать внутри фагоцитов. Во-вторых, это приспособленность к типу метаболизма именно того варианта фагоцитов, присутствие которых в легких гарантировано независимо от заражения ТБ и даст микобактериям экологическую нишу для раннего выживания и начала размножения, то есть АМ. Хозяева же приобрели способность привлекать в зону конфликта другие фагоциты, имеющие совсем другой тип метаболизма и функционирования, в частности ИМ. После фагоцитоза они предоставляют микобактериям не условия для комфортного выживания и размножения, на которые шел первичный отбор, а неблагоприятное окружение, помогающее хозяину бороться с инфекцией.
Дендритные клетки
Дендритные клетки (ДК), активные фагоциты и главные индукторы первичного ответа на антигены Т-лимфоцитов, в легких располагаются непосредственно под и среди эпителиальных клеток, постоянно осуществляя мониторинг поступающих с вдыхаемым воздухом микроорганизмов. После фагоцитоза, антигены последних распознаются внутри ДК на мембранах доставленных внутрь клеток фагосом (эндосом), в первую очередь через рецептор TLR9 [37, 47]. На поверхности дендритных клеток имеются все основные и вспомогательные молекулы, необходимые для распознавания патогенов и последующей презентации их антигенов Т-клеткам, а в их фагосомах и цитозоле имеется полный набор ферментов и шаперонов, обеспечивающих образование и транспорт антигенных пептидов, распознаваемых Т-клетками. Процесс активации ДК, наступающей в результате фагоцитоза, стимулирует миграцию ДК в дренирующие ткань лимфатические узлы. В них происходит встреча с ДК с Т-лимфоцитами и периферический подбор клонов Т-клеток, способных распознать представленный ДК антиген.
Классификация отдельных популяций ДК, все молекулярные компоненты, последовательность и физиологические последствия процессов, связанных с активностью ДК вначале и при развитии иммунного ответа, в том числе в легких, описаны во множестве обзоров (см., например, ссылки [4, 13, 46, 78]). В контексте данной статьи важно отметить, что легочные ДК одними из первых сталкиваются с микобактериями при мониторинге эпителиальной поверхности легких, и после фагоцитоза бактерий мигрируют в медиастинальные лимфатические узлы. Там и происходит встреча с проходящими через лимфоузлы Т-клетками и презентация антигенных пептидов микобактерий в контексте молекул главного комплекса тканевой совместимости (МНС) классов I и II рецепторам Т-клеток CD4+ и СD8+. Специфичные к антигенам микобактерий Т-клетки мигрируют обратно в легкое, где участвуют в элиминации микобактерий. Таким образом, мигрирующие в лимфоузлы ДК оказываются самыми первыми индукторами адаптивного защитного иммунного ответа [69, 92]. С другой стороны, способность микобактерий модулировать физиологическую активность ДК в условиях воспаления и активировать преимущественно регуляторные Т-клетки, подавляющие иммунный ответ (см. обзоры [4, 13, 46, 78], цитированные выше), превращает и эту популяцию фагоцитов в обоюдоострое оружие при ТБ.
Нейтрофилы
Нейтрофилы — это самая большая популяция фагоцитов в крови человека и лабораторных животных. Пребывание нейтрофилов в тканях, в том числе в легочной ткани, непостоянно, но они первыми выходят из циркуляции и инфильтрируют ткань при первых сигналах воспаления. В клинических и экспериментальных исследованиях показано, что активный туберкулезный процесс сопровождается массивным приходом нейтрофилов в легкие [71]. Хотя в течение довольно длительного времени роль нейтрофилов при ТБ считали до конца неустановленной и противоречивой [1, 63], многочисленные экспериментальные работы и клинические наблюдения приводят к выводу, что эти клетки играют, скорее всего, патогенную, а не защитную, роль.
Наша лаборатория одной из первых показала, что массивное и длительное присутствие нейтрофилов в легочной ткани после заражения характерно для мышей генетически чувствительной к туберкулезу линии I/St, но не для более резистентных животных, и что нейтрофилы активно захватывают, но плохо убивают микобактерии [30]. Позднее мы установили, что удаление нейтрофилов in vivo непосредственно перед заражением с помощью высокоспецифических антител против их маркера Ly-6G уменьшает размер популяции микобактерий в легких и продлевает срок жизни чувствительных мышей [101]. В элегантных экспериментах группы исследователей из туберкулезного центра в Борстеле (Германия) было показано, что фагоцитоз микобактерий нейтрофилами приводит к некрозу нейтрофилов, и прошедшие транзит через нейтрофилы микобактерии, попадающие в макрофаги при очистке ткани от погибших нейтрофилов, существенно менее чувствительны к бактерицидному действию макрофагов [25]. Недавно мы разработали новый метод получения большого количества микобактерий после их раздельного фагоцитоза нейтрофилами и макрофагами in vivo в брюшной полости, дающий возможность оценить вирулентные качества таких микробов и провести анализ профиля экспрессии генов микобактериями после всего лишь двухчасового пребывания в фагоцитах разного типа [2]. Оказалось, что транзит именно через нейтрофилы приводит к повышению вирулентности микобактерий, что сокращает срок жизни зараженных ими мышей по сравнению с контролем, и очень своеобразно меняет профиль транскрипции генов [50]. По сравнению с бактериями, прошедшими через макрофаги, транзит через нейтрофилы вызывал увеличение экспрессии генов, участвующих в метаболическом переходе бактерий в латентное состояние, что тоже снижает чувствительность к реакциям иммунного ответа хозяина.
В клинических исследованиях также наблюдалась прямая корреляция между активностью, тяжестью течения ТБ и уровнем нейтрофилов [16]. Количество нейтрофилов и значения индекса «нейтрофилы : лимфоциты» выше у больных ТБ по сравнению со здоровыми лицами, находящимися в контакте с больными и имеющими положительные кожные пробы. При этом в группе больных интенсивный ответ нейтрофилов является показателем тяжести течения заболевания и специфически связан с нарушением архитектуры легочной ткани [91]. Можно упомянуть еще и о том, что нейтрофилы — это доминирующий тип клеток в материале биопсий, взятых у больных ТБ с выделением бактерий [31].
Список свидетельств патогенной роли нейтрофилов при ТБ можно было бы с легкостью продолжить, но и процитированных исследований достаточно, чтобы счесть роль нейтрофилов в ответе на туберкулез отрицательной. К этой проблеме мы вернемся ниже, при обсуждении вопроса о взаимодействии между нейтрофилами и лимфоцитами после появления адаптивного иммунного ответа на инфекцию.
Эозинофилы
Еще совсем недавно роль эозинофилов при туберкулезе вообще не попадала в поле зрения исследователей, поскольку традиционно считалось, что их миграционная и функциональная активность связана с совсем другим типом патологий, прежде всего, с ответом на гельминты [48]. Однако за последние 5–6 лет были опубликованы работы, показывающие, что роль эозинофилов в ответе на микобактерии была, по-видимому, сильно недооценена. Особенно интересно то, что в отличие от других миелоидных гранулоцитов, нейтрофилов, эта роль отчетливо связана с защитой хозяина, а не с патологией легких.
Имеются наблюдения, что у человека при туберкулезе часто наблюдается дефицит эозинофилов в периферической крови, но их число значительно в туберкулезных очагах и внутри гранулем [35]. Отталкиваясь от старых наблюдений, большая группа исследователей провела анализ роли эозинофилов при ТБ у человека, обезьян, мышей и рыб, в том числе генетическими методами [14]. Результаты показали, что эозинофилы необходимы для оптимального контроля бактериальной популяции в легких и увеличения срока жизни после заражения. Таким образом, был найден вполне неожиданный защитный механизм против туберкулеза — привлечение эозинофилов в зараженное легкое. Авторы обращают внимание на потенциальную важность определения соотношения «эозинофилы : нейтрофилы», высокое значение которого может оказаться предиктором благоприятного течения туберкулезного процесса. В дальнейшем та же группа авторов показала, что миграция эозинофилов в пораженное туберкулезом легкое зависит не от их традиционного аттрактанта CCR3, а от экспрессии в самих эозинофилах рецептора хемотаксиса GPR183, связывающего миграцию эозинофилов с действием интерферонов типа 1 [15].
Фагоциты и генетика хозяина
Такое важное событие, как первый контакт с возбудителем опасного заболевания, всегда имел первостепенное значение для организма-хозяина и привел к развитию защитных механизмов, во многом закрепленных отбором на генетическом уровне. Фагоцитоз микобактерий, естественно, не является исключением и его эффективность и последствия находятся под контролем множества генов. Неизбежно возникающие аллельные различия в этих генах приводят к разной эффективности работы систем защиты, что на практике дает возможность понять, чем отличается эффективный ответ от неэффективного на молекулярном уровне.
Исследования по генетическому контролю инфекций, вызванных микобактериями у человека и в моделях на мышах, сконцентрированных на картировании и идентификации участвующих генов, были предметом многочисленных обзоров [3, 6, 24, 68], поэтому не будут рассматриваться здесь. Отметим лишь, что самый свежий из обзоров [68] содержит наиболее полный список всех связанных с контролем ТБ генетических локусов, которые были картированы в геноме мыши. Если же взять исследования, в которых найденные генетические различия по восприимчивости к инфекции оказались связаны именно с фагоцитами, то таких работ оказывается сравнительно немного.
В первую очередь, это, конечно, ставшие классическими исследования недавно ушедшего от нас Э. Скамене (E. Skamene) и его многочисленных учеников и последователей, по изучению гена Slc11a1 (ранее Bcg и Nramp1). Соответствующий локус был картирован на хромосоме 1 мыши [97], а последующие исследования показали, что транспортный белок, кодируемый геном Slc11a1, ответственен за выкачивание из фагосом макрофагов двухвалентных катионов металлов, в первую очередь, Fe2+, таким образом уменьшая доступ находящимся в фагосоме паразитам (не только микобактериям) к этим важным метаболитам [33].
Не менее подробно исследован локус sst1 (super susceptibility to tuberculosis 1), картированный в работах группы И. Крамника на хромосоме 1 мыши [51]. В этом локусе расположено целое семейство IFN-зависимых генов Sp100, кодирующих группу ядерных белков, чья экспрессия в макрофагах, в частности, снижает экспрессию TNF через NF-κB-опосредованный механизм. В результате у носителей доминантного аллеля, детерминирующего резистентность, образуется меньше некротических очагов в легких, эффективнее контролируется размножение микобактерий и увеличивается продолжительность жизни по сравнению с мышами гомозиготными по аллелю чувствительности. Важно, что взаимодействие некоторых генов Sp100 c генами для TNF и NF-κB прослеживается и у человека и во многом определяет уровень восприимчивости к ТБ [54]. Несколько лет назад, наконец удалось исследовать активные в макрофагах гены локуса sst1 методами генетического нокаута (это была сложная задача из-за огромного количества монотонных повторов в последовательности ДНК данного локуса) и показать, что главную роль в регуляторном каскаде играет ген, кодирующий регулятор транскрипции Sp140, а не Sp110b, как считалось раньше. Как и следовало ожидать, эта регуляция не ограничивается только ТБ, но важна и для других инфекций, зависимых от баланса между IFNγ и интерферонами типа 1 [45]. Пока не исследовано в деталях, отличается ли регуляция этого каскада реакций в АМ и ИМ (И. Крамник, личное сообщение), хотя проблема представляется интересной.
Выше упоминалось, что для чувствительных к ТБ мышей I/St характерна избыточная инфильтрация легких нейтрофилами, которые выступают в роли важного элемента патогенеза. Параллельно было показано, что в число нарушений защитного ответа мышей I/St входит и бактерицидная функция легочных макрофагов [65]. Выделенные и помещенные в культуру легочные макрофаги I/St слабо подавляли рост микобактерий после заражения in vitro и быстро погибали сами. Очень примечательно, что этот фенотип проявлялся только у свежевыделенных легочных макрофагов, но не у макрофагов из брюшной полости или выращенных in vitro из разнообразных предшественников, в том числе легочных. Кроме того, взятые от незараженных мышей легочные макрофаги не активировались экзогенным IFNγ. Многие из этих фактов, установленных более 20 лет назад, оставались необъясненными. Однако при сопоставлении с изложенными выше новыми данными о различиях между АМ и ИМ можно предположить, что отсутствие ответа на IFNγ указывает, что из легких незараженных мышей мы выделяли преимущественно АМ и они-то проявляли свойства, полностью соответствующие уровню генетической восприимчивости хозяина к ТБ. Напротив, выращенные in vitro или взятые из зараженных органов макрофаги были близки по свойствам ИМ, то есть потомкам моноцитов, пришедших из циркуляции. Уже в этой старой публикации был сделан вывод, что необходима большая осторожность при переносе выводов, сделанных на основании экспериментов in vitro с клетками разного происхождения и с помощью разных технических приемов, не говоря уже о клеточных линиях, на реальные функциональные свойства конкретной популяции фагоцитов in vivo [65].
Туберкулезная гранулема
Общая характеристика
Согласно классическим представлениям, пространственная организация туберкулезной гранулемы включает центральную зону, занятую макрофагами (АМ/ИМ, эпителиоидные и пенистые макрофаги), центр которой постепенно подвергается некрозу. В непосредственной близости от макрофагов располагаются другие клетки миелоидного ряда (дендритные клетки, нейтрофилы, эозинофилы, многоядерные гигантские клетки и тучные клетки), а вся центральная зона окружена лимфоцитами (Т-лимфоциты, NK-клетки, и NKT-клетки [86]). Вопреки часто встречающемуся мнению, что в состав этой периферической зоны входят и В-лимфоциты, мы показали, что последние преимущественно располагаются еще дальше от центра гранулемы, образуя характерные В-клеточные фолликулы [56, 57].
Как ни странно, но после полутора столетий изучения патогенеза ТБ, так и не выработано общее мнение о том, как именно развивается инфекция с самого начала. На фоне ставшего трюизмом утверждения: «отличительная черта развития раннего ТБ — это образование гранулем», существует мнение, прежде всего, патологов с большим стажем, что образование гранулем при ТБ человека — это позднее последствие далеко продвинутого иммунного ответа, а первичные очаги представлены вариантами казеозной пневмонии (см. обзор [43]). Среди причин несогласия часто называется несоответствие патогенеза ТБ у человека и в наиболее изученном модельном объекте — мыши [5, 7], то есть утверждение, базирующееся на игнорировании генетического разнообразия модельного организма, что, по нашему мнению, делает его совершенно несправедливым.
В задачи этого обзора не входит подробный разбор противоречивой аргументации разных точек зрения. Важно отметить, что противоречие во многом возникает из-за терминологической путаницы. Разумеется, часто употребляемый английский термин «primary granuloma» никак не соответствует определению, приведенному в начале этого раздела: первичный очаг инфекции еще не содержит иммунных Т- и В-лимфоцитов, которые приходят к очагу инфекции только после инициации иммунного ответа в лимфоузлах и миграции в легкое. Часто употребляемое выражение «некротическая гранулема» также расплывчато: если некроз центральной зоны зашел далеко, в ней не остается живых клеток, а тогда какая же это гранулема? С другой стороны, считать первичными так называемые очаги Гона с их казеозным содержимым тоже не вполне логично, поскольку они весьма велики и процесс некроза в них заходит очень далеко. Вдобавок, в англоязычной литературе крупные образования, возникающие после слияния нескольких гранулем с повторным возобновлением сферической многослойной структуры, также принято называть гранулемами, что принято далеко не всеми российскими патологами.
Как бы то ни было, подробное описание структуры туберкулезных гранулем, их разнообразия, динамики развития гипоксии, клеточного некроза и другие исследованные характеристики заинтересованный читатель может найти в недавно опубликованном огромном обзоре [64]. Здесь мы хотели бы подчеркнуть лишь некоторые важные особенности туберкулезных гранулем, часть которых хорошо изучена, а некоторые привлекли пока внимание более узкого круга исследователей. Работы последних двух десятилетий установили, насколько велико разнообразие условий пребывания микобактерий внутри гранулем и сколь функционально разнообразны сами гранулемы. Разработка новых моделей ТБ на животных, в которых индуктором инфекции служат сверхмалые дозы микобактерий, позволило гораздо точнее понять особенности раннего развития инфекции и природы первичных и вторичных очагов инфекции. Понимание того, что генетически обусловленные различия в уровне восприимчивости к инфекции влияют на образование и строение гранулем, поспособствовало использованию адекватных моделей инфекции на мышах, с их богатейшим арсеналом тонких аналитических возможностей.
Разнообразие гранулем
Несмотря на то, что большинство исследователей признают роль гранулем критически важной в защите хозяина при ТБ, мы все еще далеки от полного понимания роли этих образований в патогенезе инфекции. Этому препятствуют многие обстоятельства, начиная от большого разнообразия гранулем по размеру и гистологическим характеристикам, обнаруживающимся при анализе клинических образцов [18], и кончая иным, по сравнению с человеком, характером патологии легких у мышей чаще всего используемых для моделирования ТБ линий [9, 99]. В результате в большей части работ даются сравнительные характеристики гранулем всего двух типов, чаще всего, некротических и без некроза.
Недавние успехи в области пространственной транскриптомики, протеомики и компьютерного анализа образов позволили получить множество данных о разнообразии профилей экспрессии генов и структуры микроокружения в туберкулезных гранулемах мыши [21] и человека [66]. Одно из наиболее тщательных исследований по определению пространственного положения клеток иммунной системы на срезах легких больных ТБ большой площади позволило даже предложить новую классификацию туберкулезных гранулем [90]. Определив положение в пространстве отдельных клеток иммунной системы в большом количестве очагов инфекции, авторы работы показали, что кроме гранулем с некрозом в легочной ткани находится множество агрегатов лейкоцитов, окружающих некротические очаги. Они считают, что эти скопления клеток тоже относятся к гранулемам и их можно разделить на четыре разных категории на основании взаимного расположения В-лимфоцитов и макрофагов. Думается, что предлагая новую классификацию, авторы несколько увлеклись современными техническими возможностями визуализации процессов в тканях и обычным желанием иммунологов детально классифицировать все объекты и явления в иммунной системе. Пока представляется не совсем понятным, чем эти структуры принципиально отличаются от неплохо изученных В-клеточных фолликулов, окружающих очаги туберкулезной инфекции у человека и лабораторных животных [29, 57, 93].
Тем не менее иммунологические отличия между индивидуальными очагами инфекции в каждом туберкулезном легком существуют совершенно объективно. В первую очередь, первичный очаг инфекции с первого дня возникновения и в течение не менее двух недель вынужденно обходится без участия клеток адаптивного иммунного ответа, поэтому на этой фазе инфекции он не может, строго говоря, называться гранулемой. Напротив, вторичные очаги, появляющиеся в результате диссеминации (а также очаги, появляющиеся при реактивации или повторной инфекции) возникают на фоне уже имеющегося специфического иммунитета и могут быстро принимать клеточную структуру гранулемы. Кроме того, многочисленные исследования индивидуальных туберкулезных очагов, прежде всего на морских свинках [76, 96] и, главное, на приматах [17, 34], убедительно показали, что в легком одной особи каждый очаг (и каждая гранулема) имеет свой неповторимый спектр экспрессии генов, продукции цитокинов, хемокинов и антител. Это означает, что определение интегральных показателей иммунного ответа — даже не в циркуляции, а прямо в легочной ткани, как это делается в резекционном материале у людей и в моделях ТБ на мышах — не дает представления о событиях, происходящих в каждом отдельном очаге инфекции.
Совершенствование моделей на мышах
Ультранизкая доза заражения
В последних процитированных выше работах морских свинок и макак заражали низкими дозами микобактерий, справедливо считая, что это лучше воспроизводит ситуацию с заражением людей естественным путем. Во введении мы уже упоминали об общепринятом мнении, что ТБ у генетически восприимчивого человека возникает, по-видимому, после вдыхания всего 1–5 микобактерий. Классические эксперименты по заражению морских свинок в палатах туберкулезных больных, на которых базируется эта оценка [75, 85], неоднократно проверялись с помощью других подходов с неизменным подтверждением результата (см. обзор [28]). Например, на подготовительной стадии анализа очагов ТБ у макак было установлено, что при заражении обезьян в дозе 10–20 микобактерий на особь большая часть возникающих гранулем возникает в месте локации единичных микобактерий [55]. Этот феномен перекликается с давно высказанным предположением, что микрокапли вдыхаемого естественного аэрозоля, способные физически «вместить» заметно большее количество бактерий, слишком велики и оседают в дыхательных путях гораздо выше альвеол [98].
Отсюда возникли предположения, что некоторые фенотипы инфекции, наблюдаемые у мышей, могут отличаться от клинической картины из-за того, что мышей заражают обычно дозой 50–100 КОЕ в ультрадисперсном аэрозоле, что приводит к одновременному возникновению многих первичных очагов инфекции и совершенно другой динамике ответа хозяина. В частности, у мышей стандартных инбредных линий, таких как С57BL/6 (B6), практически не удается выявить гранулемы с упорядоченной структурой, столь характерные для ТБ у человека. Естественно, были предприняты попытки заражения лабораторных мышей ультранизкими дозами M. tuberculosis с последующим анализом картины заболевания.
Первая такая работа позволила уточнить принципы и определить параметры возникновения инфекции в группах мышей. Обсчет результатов заражения по уравнению Пуассона показал, что при рассчитанной дозе для аэрозольной камеры 2 КОЕ/мышь зараженными оказываются менее 67% животных, что соответствует ожидаемым единичным событиям [88]. Более поздние исследования с многофакторным анализом картины заболевания в подобной модели во многом оправдали надежды на более аккуратное моделирование ТБ в сравнительно дешевой и простой модели на мышах. Так, у мышей, зараженных ультранизкой дозой микобактерий, образовывались сферические правильные гранулемы, похожие на гранулемы человека, причем у части животных инфекция в течение долгого времени ограничивалась только одним легким, не распространяясь на второе [82]. Дальнейшее сравнение профилей экспрессии генов в клетках периферической крови мышей, зараженных стандартной (50–100 КОЕ) и ультранизкой дозой, доказало, что картина заболевания и прогрессирования инфекции у животных второй группы значительно точнее соответствует клинической.
В другом исследовании, где применялась ультранизкая доза заражения мышей, удалость установить, что вакцинация BCG действительно снижает вероятность диссеминации инфекции (в данном случае — в ранее остававшимся незараженным левом легком). Более того, несколько уменьшается даже доля животных, у которых развивается первичная инфекция [81]. Другими словами, на этой модели удалось впервые получить данные о частичной эффективности вакцины BCG, оцененной не по срокам выживания и размножению микобактерий в органах, а именно по параметрам, которые применяются при исследованиях в популяциях человека. Широко распространенные модели на мышах таких результатов никогда не приносили.
Выбор генетически чувствительных линий
Подавляющее большинство исследований ТБ на мышах выполнялось и выполняется на животных инбредной линии B6, которую можно считать одной из самых генетически резистентных к инфекции [6, 51]. Неудивительно, что картина туберкулезной патологии, в том числе образования гранулем, у этих животных во многом не соответствует клиническим наблюдениям. Спектр генетической чувствительности у больных, с которыми имеют дело клиницисты, неизвестен. Часть из них может оказаться и резистентными. Например, человек заразился в 15 лет, десятилетия оставался носителем латентной инфекции, а в 50 появились симптомы заболевания — неужели мы можем считать его генетически чувствительным, если он контролировал бессимптомное носительство столько лет? Кстати, такие соображения очень сильно влияют на стратификацию больных ТБ для генетических исследований в человеческих популяциях и привели к идентификации новых локусов, контролирующих ТБ [36]. Однако достаточно высокая доля больных ТБ, а среди детей и подростков она, скорее всего, подавляющая, на самом деле высоко восприимчива к инфекции, поэтому моделировать течение ТБ преимущественно на резистентных животных, в целом, не вполне корректно.
В самом деле, исследование структуры и особенностей образования туберкулезных гранулем у мышей генетически чувствительных к ТБ линий привело к выводу о несправедливости утверждения о полном несоответствии патологии легочной ткани у больных ТБ и зараженных мышей. Так, в исследованиях группы И. Крамника было убедительно показано, что мыши высокочувствительной к ТБ линии C3HeB/FeJ образуют крупные гранулемы с некротическим центром и упорядоченным расположением иммунных клеток на периферии [52, 74]. В нашем исследовании образования гранулем у генетически чувствительных мышей линии I/St было обнаружен и некроз центральных областей крупных гранулем, и развитие гипоксии вокруг областей некроза, и правильное расположение В-клеточных фолликулов с пролиферирующими В- и Т-лимфоцитами CD4+ на периферии очагов [49, 56]. Таким образом, изучение возникновения и развития туберкулезных гранулем вполне возможно и правомерно проводить на лабораторных мышах, но следует тщательно выбирать линии животных и изучаемый фенотип самого заболевания.
Заключение. Пересечение врожденного и адаптивного иммунитета: генетические и иммунологические аспекты проблемы
Основные клеточные популяции иммунной системы, механизмы распознавания антигенов микобактерий, объясняющие способы взаимодействия между клетками врожденного и адаптивного иммунного ответа, участвующие в этих процессах регуляторные и эффекторные молекулы очень подробно изучены и описаны в прекрасных обзорах [18, 32]. Оценки того, на какой срок после заражения начинается адаптивный иммунный ответ (что, собственно, и означает окончание ранней фазы ТБ), слегка отличаются для человека, других приматов и лабораторных мышей, но по всем данным это происходит на третьей-четвертой неделе после первого проникновения M. tuberculosis в легочную ткань [20, 83]. Эти оценки совпадают и со сроками еще одного важного события — диссеминации микобактерий в селезенку и ранее не зараженное легкое, что было установлено нами в специальной модели заражения мышей непосредственно в правое легкое [70].
Огромное количество полученных данных не касается, однако, одного важного аспекта проблемы: как именно состояние иммунной системы до заражения влияет на последующие события. Понятно, что в клинических исследованиях нет возможности исследовать одних и тех же индивидов до и после заражения ТБ (хотя тщательный ретроспективный анализ прошлых иммунологических исследований, проведенных хотя бы у небольшой доли лиц еще до обращения по поводу пульмонологических проблем, был бы очень любопытен). Но и в экспериментальных работах на инбредных мышах, где возможность таких исследований ничем не ограничена, она практически не используется. Почему-то экспериментаторы почти всегда сначала заражают мышей, потом исследуют болезнь в динамике, но не оценивают состояние иммунной системы у животных той же линии до заражения, то есть следуют парадигме клинического исследования. С точки зрения генетика это — крупный недостаток, потому что такой дизайн исследования приводит к подмене понятий.
Сравнивая еще до заражения состояние иммунной системы у животных двух линий с разным течением инфекции, экспериментатор получает ответ на вопрос именно о природе (в иммунологическом аспекте) высокой и низкой генетической восприимчивости. Такие же исследования, но проведенные после заражения и без учета незараженной контрольной группы, отвечают на вопрос об иммунологических причинах тяжелого или легкого течения заболевания. Эти два признака не только не тождественны, но их анализ дает разный ответ на вопрос о порядке включения в ответ врожденного и адаптивного звеньев иммунитета.
Для идентификации генов, вовлеченных в контроль ТБ, мы вывели большую панель конгенных рекомбинантных линий мышей, отличающихся только небольшими участками комплекса Н2, перенесенными за счет рекомбинации от чувствительной к ТБ линии I/St на генетическую основу резистентной линии В6 [62]. Среди линий этой панели, оказались такие, которые отличались от исходной линии В6 только аллелями генов класса II, кодирующих молекулу Н2-А, в контексте которой происходит презентация антигенных пептидов Т-клеткам CD4+. Этих тонких различий оказалось достаточно, чтобы новые выведенные линии оказались гораздо чувствительнее к ТБ, чем исходная В6 [59, 62]. Количество Т-клеток CD4 в лимфоидных органах у них было снижено, а клетки имели сильно суженный репертуар Т-рецепторов, причем эти особенности проявлялись еще до заражения туберкулезом [60].
Дальнейший анализ показал, что у мышей конгенной чувствительной линии B6.I-9.3 по сравнению с исходной линией В6 на фоне уменьшенной популяции Т-клеток CD4+ увеличена популяция нейтрофилов, производящих воспалительный фактор S100A8/9, и увеличена концентрация S100A8/9 в сыворотке, а объясняется это тем, что среди Т-клеток CD4 увеличена популяция Th17, но снижена популяция Th1. Все эти фенотипы проявляются еще до заражения. Проведенный генетический анализ напрямую связал фенотипы большей и меньшей восприимчивости к ТБ с расщеплением по аллелям единственного гена Н2Аb, по которым различаются две линии мышей [58]. Продукт этого гена напрямую регулирует селекцию Т-клеток CD4 в тимусе и их поддержание на периферии, а это — типичная цепочка событий адаптивного иммунного ответа. Значит, зависимый от селекции Т-клеток CD4+ иммунный ответ регулирует размер популяции и воспалительную активность нейтрофилов, которые, конечно, считаются чуть ли не самым типичным компонентом врожденного иммунитета. Но нейтрофилов в легком до заражения ТБ очень мало, этот тип ответа вторичен по отношению к началу заболевания, а генетическая предрасположенность в данном случае первично зависит от адаптивного звена иммунитета. Как же в этом случае выглядит наш, казалось бы, абсолютно логичный, взгляд на порядок иммунных реакций? В данном случае первым действует фактор адаптивного, а затем уже врожденного иммунитета
Мы склоняемся к следующей интерпретации. Эволюционно врожденный иммунитет, несомненно, древнее адаптивного, но уже не менее 550 млн лет они сопутствуют друг другу [95]. Располагая встроенным в геном и в общую физиологию взаимодействия «паразит–хозяин» механизмом селекции и определения размеров популяций Т-клеток, иммунная система сразу включает весь имеющийся арсенал средств, а в его состав входит и способность Т-лимфоцитов регулировать размер популяции нейтрофилов [72]. Принятая классификация типов иммунного ответа — это отражение нашего взгляда на сложную структуру, а в реальной эволюционной биологии в ход пускаются одновременно все сохраненные отбором механизмы.
Совсем недавно были опубликованы результаты чрезвычайно интересного исследования индивидов, у которых, несмотря на проживание в тесном контакте с больными ТБ и носительством ВИЧ-инфекции, не развивались клинические проявления ТБ. Часть этих людей были носителями латентной инфекции (положительный IGRA-тест), а часть не только не заболевали, но и не давали иммунного ответа на микобактерии [26]. Вторая группа явно относится к когорте лиц с врожденной резистентностью к ТБ (их называют «резисторами» и у них нет признаков ни адаптивного ответа, ни заболевания, хотя общий фон — контакт с больными ТБ в сочетании с ВИЧ — явно неблагоприятный). Две группы сравнили по составу клеток БАЛ методами scRNA-seq и анализа клеточных кластеров. Авторы установили, что в обеих группах присутствует особый подтип цитотоксических Т-лимфоцитов, которые продуцируют перфорин, гранзим В и несут типичные рецепторы NK-клеток, причем у резисторов количество этих клеток в БАЛ достоверно больше. Примечательно, что и уровень экспрессии гена, кодирующего активирующую эти цитотоксические клетки молекулу MICA, оказался выше именно у резисторов. Напротив, у носителей латентной инфекции был повышен по сравнению с резисторами уровень IFNγ. По интерпретации авторов, полученные результаты свидетельствуют о существовании у людей механизма врожденной резистентности к ТБ, также основанной на активности лимфоцитов, но совсем иных по сравнению с Т-клетками CD4+, регулирующими размер популяции нейтрофилов в наших опытах на мышах. В данном случае это цитотоксические Т-клетки с отчетливыми характеристиками врожденного иммунитета.
Наконец, полученные совсем недавно нашей лабораторией данные о динамике иммунного ответа после заражения ТБ мышей упомянутых выше линий В6 и В6.I-9.3 с разной восприимчивостью и течением туберкулезной инфекции позволили установить, чем отличается эффективный ответ на инфекцию от неэффективного в первый месяц после заражения и к чему это приводит на поздних сроках. В этой работе [61] мы установили три такие особенности. Во-первых, в течение 3-х недель после заражения у резистентных и чувствительных конгенных по MHC II мышей количество микобактерий в легких оставалось одинаковым. Несмотря на это, у резистентных животных в этот период в легкие приходило достоверно больше специфичных к микобактериям Т-клеток CD4, продуцирующих IFNγ. Во-вторых, в следующие несколько месяцев резистентные мыши удерживали количество клеток IFNγ+ и общую пропорцию активированных клеток CD4+, на более низком уровне, чем чувствительные. Другими словами, был обеспечен приемлемо низкий уровень иммунологического гомеостаза. Мы считаем этот аспект важным, поскольку «перевозбужденная» иммунная система слишком близка к развитию реакций, похожих на деструктивные для тканей аутоиммунные. В-третьих, у чувствительных мышей больший процент Т-клеток CD4+ нес на поверхности маркеры и клеточной активации, и иммунологического ингибирования (checkpoint markers), то есть имел фенотип, который считают ассоциированным с иммунологическим истощением на поздних стадиях инфекции. Совокупность всех полученных в данной тест-системе данных дает возможность заключить, что зависящий от аллелей генов MHC II и возникающий еще до заражения ТБ иммунный гомеостаз Т-клеток CD4, фиксируется на разных уровнях у мышей разных линий. Если этот уровень не оптимален, то последствия затрагивают и ранние, и поздние фазы иммунного ответа на микобактерии.
Благодарности
Авторы благодарны всем сотрудниками лаборатории иммуногенетики ФГБНУ «ЦНИИТ» за предоставленные материалы и обсуждение текста.
About the authors
Tatiana K. Kondratieva
Central TB Research Institute
Author for correspondence.
Email: tanya.kondratieva.47@mail.ru
DSc (Biology), Leading Researcher, Laboratory of Immunogenetics, Immunology Department
Россия, MoscowElena V. Kondratieva
Central TB Research Institute
Email: alyonakondratyeva74@gmail.com
PhD (Biology), Senior Researcher, Laboratory of Immunogenetics, Immunology Department
Россия, MoscowAlexander S. Apt
Central TB Research Institute
Email: alexapt0151@gmail.com
DSc (Biology), Professor, Head of the Laboratory of Immunogenetics, Immunology Department
Россия, MoscowReferences
- Линге И.А., Апт А.С. Нейтрофилы: неоднозначная роль в патогенезе туберкулеза // Инфекция и иммунитет. 2021. Т. 11, № 5. C. 809–819. [Linge I.A., Apt A.S. A controversial role of neutrophils in tuberculosis infection pathogenesis. Infektsiya i immunitet = Russian Journal of Infection and Immunity, 2021, vol. 11, no. 5, pp. 809–819. (In Russ.)] doi: 10.15789/2220-7619-ACR-1670
- Майоров К.Б., Григоров А.С., Кондратьева Е.В., Ажикина Е.Л., Апт А.С. Получение Mycobacterium tuberculosis после фагоцитоза нейтрофилами in vivo для генетического и функционального анализа // Вестник ЦНИИТ. 2020. Т. 2, № 2. С. 30–35. [Majorov K.B., Grigorov A.S., Kondratieva E.V., Azhikina T.L., Apt A.S. Extraction of Mycobacterium tuberculosis after in vivo phagocytosis by neutrophils for further genetic and functional analyses. Vestnik TsNIIT = CRTI Bulletin 2020, vol. 2, no. 2, pp. 30–35. (In Russ.)] doi: 10.7868/S2587667820020041
- Abu Toamih Atamni H., Nashef A., Iraqi F.A. The collaborative cross mouse model for dissecting genetic susceptibility to infectious diseases. Mamm. Genome, 2018, vol. 29, no. 7–8, pp. 471–487. doi: 10.1007/s00335-018-9768-1
- Alvarez D., Vollmann E.H., von Andrian U.H. Mechanisms and consequences of dendritic cell migration. Immunity, 2008, vol. 29, no. 3, pp. 325–342. doi: 10.1016/j.immuni.2008.08.006
- Apt A.S. Are mouse models of human mycobacterial diseases relevant? Genetics says: ‘yes!’. Immunology, 2011, vol. 134, no. 2, pp. 109–115. doi: 10.1111/j.1365-2567.2011.03472.x
- Apt A.S., Logunova N.N., Kondratieva T.K. Host genetics in susceptibility to and severity of mycobacterial diseases. Tuberculosis (Edinb.), 2017, vol. 106, no. 1, pp. 1–8. doi: 10.1016/j.tube.2017.05.004
- Apt A., Kramnik I. Man and mouse TB: contradictions and solutions. Tuberculosis (Edinb.), 2009, vol. 89, no. 3, pp. 195–198. doi: 10.1016/j.tube.2009.02.002
- Balasubramanian V., Wiegeshaus E.H., Taylor B.T., Smith D.W. Pathogenesis of tuberculosis: pathway to apical localization. Tuber. Lung Dis., 1994, vol. 75, no. 3, pp. 168–178. doi: 10.1016/0962-8479(94)90002-7
- Basaraba R.J., Hunter R.L. Pathology of tuberculosis: How the pathology of human tuberculosis informs and directs animal models. Microbiol. Spectr., 2017, vol. 5: 5. doi: 10.1128/microbiolspec.TBTB2-0029-2016
- Bermudez L.E., Goodman J. Mycobacterium tuberculosis invades and replicates within type II alveolar cells. Infect. Immun., 1996, vol. 64, no. 4, pp. 1400–1406. doi: 10.1128/iai.64.4.1400-1406.1996
- Bermudez L.E., Sangari F.J., Kolonoski P., Petrofsky M., Goodman J. The efficiency of the translocation of Mycobacterium tuberculosis across a bilayer of epithelial and endothelial cells as a model of the alveolar wall is a consequence of transport withinmononuclear phagocytes and invasion of alveolar epithelial cells. Infect. Immun., 2002, vol. 70, no. 1, pp. 140–146. doi: 10.1128/IAI.70.1.140-146.2002
- Bhattacharya J., Westphalen K. Macrophage-epithelial interactions in pulmonary alveoli. Semin. Immunopathol., 2016, vol. 38, no. 4, pp. 461–469. doi: 10.1007/s00281-016-0569-x
- Blum J.S., Wearsch P.A., Cresswell P. Pathways of antigen processing. Annu. Rev. Immunol., 2013, vol. 31, pp. 443–473. doi: 10.1146/annurev-immunol-032712-095910
- Bohrer A.C., Castro E., Hu Z., Queiroz A.T. L., Tocheny C.E., Assmann M., Sakai S., Nelson C., Baker P.J., Ma H., Wang L., Zilu W., du Bruyn E., Riou C., Kauffman K.D.; Tuberculosis Imaging Program; Moore I.N., Del Nonno F., Petrone L., Goletti D., Martineau A.R., Lowe D.M., Cronan M.R., Wilkinson R.J., Barry C.E., Via L.E., Barber D.L., Klion A.D., Andrade B.B., Song Y., Wong K.W., Mayer-Barber K.D. Eosinophils are part of the granulocyte response in tuberculosis and promote host resistance in mice. J. Exp. Med., 2021, vol. 218: e20210469. doi: 10.1084/jem.20210469
- Bohrer A.C., Castro E., Tocheny C.E., Assmann M., Schwarz B., Bohrnsen E. Rapid Gpr183-mediated recruitment of eosinophils to the lung after mycobacterium tuberculosis infection. Cell. Rep., 2022, vol. 40: 111144. doi: 10.1016/j.celrep.2022.111144
- Borkute R.R., Woelke S., Pei G., Dorhoi A. Neutrophils in tuberculosis: cell biology, cellular networking and multitasking in host defense. Int. J. Mol. Sci., 2021, vol. 22, no. 9: 4801. doi: 10.3390/ijms22094801
- Bromley J.D., Ganchua S.K.C., Nyquist S.K., Maiello P., Chao M., Borish H.J., Rodgers M., Tomko J., Kracinovsky K., Mugahid D., Nguyen S., Wang Q.D., Rosenberg J.M., Klein E.C., Gideon H.P., Floyd-O’Sullivan R., Berger B., Scanga C.b A., Lin P.b L., Fortune S.M., Shalek A.K., Flynn J.L. CD4+ T cells re-wire granuloma cellularity and regulatory networks to promote immunomodulation following Mtb reinfection. Immunity, 2024, vol. 57, no. 10, pp. 2380–2398.e6. doi: 10.1016/j.immuni.2024.08.002
- Cadena A.M., Fortune S.M., Flynn J.L. Heterogeneity in tuberculosis. Nat. Rev. Immunol., 2017, vol. 17, no. 11, pp. 691–702. doi: 10.1038/nri.2017.69
- Cadena A.M., Flynn J.L., Fortune S.M. The importance of first impressions: early events in Mycobacterium tuberculosis infection influence outcome. mBio, 2016, vol. 7, no. 2: e00342-16. doi: 10.1128/mBio.00342-16
- Capuano S.V. 3rd, Croix D.A., Pawar S., Zinovik A., Myers A., Lin P.L., Bissel S., Fuhrman C., Klein E., Flynn J.L. Experimental Mycobacterium tuberculosis infection of cynomolgus macaques closely resembles the various manifestations of human M. tuberculosis infection. Infect. Immun., 2003, vol. 71, no. 10, pp. 5831–5844. doi: 10.1128/IAI.71.10.5831-5844.2003
- Carow B., Hauling T., Qian X., Kramnik I., Nilsson M., Rottenberg M.E. Spatial and temporal localization of immune transcripts defines hallmarks and diversity in the tuberculosis granuloma. Nat. Commun., 2019, vol. 10, no. 1: 1823. doi: 10.1038/s41467-019-09816-4
- Cidem A., Bradbury P., Traini D., Ong H.X. Modifying and integrating in vitro and ex vivo respiratory models for inhalation drug screening. Front. Bioeng. Biotechnol., 2020, vol. 8: 581995. doi: 10.3389/fbioe.2020.581995
- Corleisa B., Dorhoi A. Early dynamics of innate immunity during pulmonary tuberculosis. Immunol. Lett., 2020, vol. 221, pp. 56–60. doi: 10.1016/j.imlet.2020.02.010
- Correa-Macedo W., Cambri G., Schurr E. The interplay of human and Mycobacterium tuberculosis genomic variability. Front. Genet., 2019, vol. 10: 865. doi: 10.3389/fgene.2019.00865
- Dallenga T., Repnik U., Corleis B., Eich J., Reimer R., Griffiths G.W., Schaible U.E. Tuberculosis-induced necrosis of infected neutrophils promotes bacterial growth following phagocytosis by macrophages. Cell Host Microbe, 2017, vol. 22, no. 4, pp. 519–530 e3. doi: 10.1016/j.chom.2017.09.003
- Dallmann-Sauer M., Fava V.M., Malherbe S.T., MacDonald C.E., Orlova M., Kroon E.E., Cobat A., Boisson-Dupuis S., Hoal E.G., Abel L., Möller M., Casanova J.L., Walzl G., Du Plessis N., Schurr E. Mycobacterium tuberculosis resisters despite HIV exhibit activated T cells and macrophages in their pulmonary alveoli. J. Clin. Invest., 2025: e188016. doi: 10.1172/JCI188016
- De Waal A.M., Hiemstra P.S., Ottenhoff T.H. M., Joosten A., van der Does A M. Lung epithelial cells interact with immune cells and bacteria to shape the microenvironment in tuberculosis. Thorax, 2022, vol. 77, no. 4, pp. 408–416. doi: 10.1136/thoraxjnl-2021-217997
- Donald P.R., Diacon A.H., Lange C., Demers A.M., von Groote-Bidlingmaier F., Nardell E. Droplets, dust and guinea pigs: an historical review of tuberculosis transmission research, 1878–1940. Int. J. Tuberc. Lung Dis., 2018, vol. 22 no. 9, pp. 972–982. doi: 10.5588/ijtld.18.0173
- Dyatlov A.V., Apt A.S., Linge I.A. B lymphocytes in anti-mycobacterial immune responses: Pathogenesis or protection? Tuberculosis (Edinb.), 2019, vol. 114, no. 1, pp. 1–8. doi: 10.1016/j.tube.2018.10.011
- Eruslanov E. B, Lyadova I. V, Kondratieva T.K., Majorov K.B., Scheglov I.V., Orlova M.O., Apt A.S. Neutrophil responses to Mycobacterium tuberculosis infection in genetically susceptible and resistant mice. Infect. Immun., 2005, vol. 73, no. 3, pp. 1744–1753. doi: 10.1128/IAI.73.3.1744-1753.2005
- Eum S.Y., Kong J.H., Hong M.S., Lee Y.J., Kim J.H., Hwang S.H., Cho S.N., Via L.E., Barry C.F. 3rd. Neutrophils are the predominant infected phagocytic cells in the airways of patients with active pulmonary TB. Chest, 2010, vol. 137, no. 1, pp. 122–128. doi: 10.1378/chest.09-0903
- Flynn J.L., Chan J. Immune cell interactions in tuberculosis. Cell, 2022, vol. 185, no. 25, pp. 4682–4702. doi: 10.1016/j.cell.2022.10.025
- Forbes J.R., Gros P. Iron, manganese, and cobalt transport by Nramp1 (Slc11a1) and Nramp2 (Slc11a2) expressed at the plasma membrane. Blood, 2003, vol. 102, no. 5, pp. 1884–1892. doi: 10.1182/blood-2003-02-0425
- Gideon H.P., Hughes T.K., Tzouanas C.N., Wadsworth M.H., Tu A.A., Gierahn T.M., Peters J.M., Hopkins F.F., Wei J.-R., Kummerlowe C. Multimodal profiling of lung granulomas in macaques reveals cellular correlates of tuberculosis control. Immunity, 2022, vol. 55, no. 5, pp. 827–846.e10. doi: 10.1016/j.immuni.2022.04.004
- Gill A.M. Eosinophilia in tuberculosis. BMJ, 1940, vol. 17, pp. 220–221. doi: 10.1136/bmj.2.4154.220
- Grant A.V., Sabri A., Abid A., Abderrahmani Rhorfi I., Benkirane M. , Souhi H., Naji Amrani H., Alaoui-Tahiri K., Gharbaoui Y., Lazrak F., Sentissi I., Manessouri M., Belkheiri S., Zaid S., Bouraqadi A., El Amraoui N., Hakam M., Belkadi A., Orlova M., Boland A., Deswarte C., Amar L., Bustamante J., Boisson-Dupuis S., Casanova J.L., Schurr E., El Baghdadi J., Abel L. A genome-wide association study of pulmonary tuberculosis in Morocco. Hum. Genet., 2016, vol. 135. no. 3, pp. 299–307. doi: 10.1007/s00439-016-1633-2
- Guilliams M., Lambrecht B.N., Hammad H. Division of labor between lung dendritic cells and macrophages in the defense against pulmonary infections. Mucosal. Immunol., 2013, vol. 6, no. 3, pp. 464–473. doi: 10.1038/mi.2013.14
- Gutierrez M.C., Brisse S., Brosch R., Fabre M., Omaïs B., Marmiesse M., Supply P., Vincent V. Ancient origin and gene mosaicism of the pro genitor of mycobacterium tuberculosis. PLoS Pathog., 2005, vol. 1, no. 1: e5. doi: 10.1371/journal.ppat.0010005
- Hashimoto D., Chow A., Noizat C., Teo P., Beasley M.B., Leboeuf M., Becker C.D., See P., Price J., Lucas D., Greter M., Mortha A., Boyer S.W., Forsberg E.C., Tanaka M., van Rooijen N., García-Sastre A., Stanley E.R., Ginhoux F., Frenette P.S, Merad M. Tissue-resident macrophages self-maintain locally throughout adult life with minimal contribution from circulating monocytes. Immunity, 2013, vol. 38, no. 4, pp. 792–804. doi: 10.1016/j.immuni.2013.04.004
- Hoeffel G., Chen J., Lavin Y., Low D., Almeida F.F., See P., Beaudin A.E., Lum J., Low I., Forsberg E.C., Poidinger M., Zolezzi F., Larbi A., Ng L.G., Chan J.K., Greter M., Becher B., Samokhvalov I.M., Merad M., Ginhoux F. C-Myb(+) erythro-myeloid progenitor-derived fetal monocytes give rise to adult tissue-resident macrophages. Immunity, 2015, vol. 42, no. 4, pp. 665–678. doi: 10.1016/j.immuni.2015.03.011
- Hoeffel G., Ginhoux F. Fetal monocytes and the origins of tissue-resident macrophages. Cell. Immunol., 2018, vol. 330, pp. 5–15. doi: 10.1016/j.cellimm.2018.01.001
- Huang L., Nazarova E.V., Tan S., Liu Y., Russell D.G. Growth of Mycobacterium tuberculosis in vivo segregates with host macrophage metabolism and ontogeny. J. Exp. Med., 2018, vol. 215, no. 4, pp. 1135–1152. doi: 10.1084/jem.20172020
- Hunter R.L. The pathogenesis of tuberculosis — The Koch phenomenon reinstated. Pathogens, 2020, vol. 9, no. 10: 813. doi: 10.3390/pathogens9100813
- Iakobachvili N., Leon-Icaza S.A., Knoops K., Sachs N., Mazères S., Simeone R., Peixoto A., Bernard C., Murris-Espin M., Mazières J., Cam K., Chalut C., Guilhot C., López-Iglesias C., Ravelli R.B., Neyrolles J., Meunier E., Lugo-Villarino G., Clevers H., Cougoule C., Peters P.J. Mycobacteria–host interactions in human bronchiolar airway organoids. Mol. Microbiol., 2022, vol. 117, no. 3, pp. 682–692. doi: 10.1111/mmi.14824
- Ji D.X., Witt K.C., Kotov D.I., Margolis S.R., Louie A., Chevée V., Chen K.J., Gaidt M.M., Dhaliwal H.S., Lee A.Y., Nishimura S.L., Zamboni D.S., Kramnik I., Portnoy D.A., Darwin K.H., Vance R.E. Role of the transcriptional regulator SP140 in resistance to bacterial infections via repression of type I interferons. Elife, 2021, vol. 10: e67290. doi: 10.7554/eLife.67290
- Kawasaki T., Ikegawa M., Kawai T. Antigen presentation in the lung. Front. Immunol., 2022, vol. 13: 860915. doi: 10.3389/fimmu.2022.860915
- Khan N., Vidyarthi A., Pahari S., Agrewala J.N. Distinct strategies employed by dendritic cells and macrophages in restricting mycobacterium tuberculosis infection: different philosophies but same desire. Int. Rev. Immunol., 2016, vol. 35, no. 5, pp. 386–398. doi: 10.3109/08830185.2015.1015718
- Klion A.D., Ackerman S.J., Bochner B.S. Contributions of eosinophils to human health and disease. Annu. Rev. Pathol., 2020, vol. 15, pp. 179–209. doi: 10.1146/annurev-pathmechdis-012419-032756
- Kondratieva E., Logunova N., Majorov K., Averbakh M., Apt A. Host genetics in granuloma formation: human-like lung pathology in mice with reciprocal genetic susceptibility to M. tuberculosis and M. avium. PLoS One, 2010, vol. 5: e10515. doi: 10.1371/journal.pone.0010515
- Kondratieva E., Majorov K., Grigorov A., Skvortsova Y., Kondratieva T., Rubakova E., Linge I., Azhikina T., Apt A. An in vivo model of separate M. tuberculosis phagocytosis by neutrophils and macrophages: gene expression profiles in the parasite and disease development in the mouse host. Int. J. Mol. Sci., 2022, vol. 23, no. 6: 2961. doi: 10.3390/ijms23062961
- Kramnik I. Genetic dissection of host resistance to Mycobacterium tuberculosis: the sst1 locus and the Ipr1 gene. Curr. Top. Microbiol. Immunol., 2008, vol. 321, pp. 123–148. doi: 10.1007/978-3-540-75203-5_6
- Kramnik I., Beamer G. Mouse models of human TB pathology: roles in the analysis of necrosis and the development of host-directed therapies. Semi. Immunopathol., 2016, vol. 38, no. 2, pp. 221–237. doi: 10.1007/s00281-015-0538-9
- Lavin Y., Mortha A., Rahman A., Merad M. Regulation of macrophage development and function in peripheral tissues. Nat. Rev. Immunol., 2015, vol. 15, no. 12, pp. 731–744. doi: 10.1038/nri3920
- Leu J.S., Chen M.L., Chang S.Y., Yu S.L., Lin C.W., Wang H., Chen W.C., Chang C.H. , Wang J.Y., Lee L.N., Yu C.J., Kramnik I., Yan B.S. SP110b сontrols host immunity and susceptibility to tuberculosis. Am. J. Respir. Crit. Care Med., 2017, vol. 195, no. 3, pp. 369–382. doi: 10.1164/rccm.201601-0103OC
- Lin P.L., Ford C.B., Coleman M.T., Myers A.J., Gawande R., Ioerger T., Sacchettini J., Fortune S.M., Flynn J.L. Sterilization of granulomas is common in active and latent tuberculosis despite within-host variability in bacterial killing. Nat. Med., 2014, vol. 20, no. 1, pp. 75–79. doi: 10.1038/nm.3412
- Linge I., Dyatlov A., Kondratieva E., Avdienko V., Apt A., Kondratieva T. B-lymphocytes forming follicle-like structures in the lung tissue of tuberculosis-infected mice: dynamics, phenotypes and functional activity. Tuberculosis (Edinb.), 2017, vol. 102, pp. 16–23. doi: 10.1016/j.tube.2016.11.005
- Linge I., Kondratieva T., Apt A. B-cell follicles in tuberculous lung: active defenders or modest bystanders? Immunology, 2023, vol. 169, no. 4, pp. 515–518. doi: 10.1111/imm.13657
- Logunova N.N., Kapina M.A., Dyatlov A.V., Kondratieva T.K., Rubakova E.V., Majorov K.B., Kondratieva E.V., Linge I.A., Apt A.S. Polygenic TB control and the sequence of innate/adaptive immune responses to infection: MHC-II alleles determine the size of the S100A8/9-producing neutrophil population. Immunology, 2024, vol. 173, no. 2, pp. 381–393. doi: 10.1111/imm.13836
- Logunova N.N., Kapina M.A., Kondratieva E.V., Apt A.S. The H2-A Class II molecule α/β-chain cis-mismatch severely affects cell surface expression, selection of conventional CD4+ T cells and protection against TB infection. Front. Immunol., 2023, vol. 14: 1183614. doi: 10.3389/fimmu.2023.1183614. doi: 10.3389/fimmu.2023.1183614
- Logunova N.N., Kriukova V.V., Shelyakin P.V., Egorov E.S., Pereverzeva A., Bozhanova N.G., Shugay M., Shcherbinin D.S., Pogorelyy M.V., Merzlyak E.M., Zubov V.N., Meiler J., Chudakov D.M., Apt A.S., Britanova O.V. MHC-II alleles shape the CDR3 repertoires of conventional and regulatory naïve CD4+ T cells. Proc. Natl Acad. Sci. USA, 2020, vol. 117, no. 24, pp. 13659–13669. doi: 10.1073/pnas.2003170117
- Logunova N., Kapina M., Kriukova V., Britanova O., Majorov K., Linge I., Apt A. Susceptibility to and severity of tuberculosis infection in mice depends upon MHC-II-determined level of activation-inhibition balance in CD4 T-cells. Immunology, 2025. (In press)
- Logunova N., Korotetskaya M., Polshakov V., Apt A. The QTL within the H2 complex involved in the control of tuberculosis infection in mice is the classical class II H2-Ab1 gene. PLoS Genet., 2015, vol. 11: e1005672. doi: 10.1371/journal.pgen.1005672
- Lowe D.M., Redford P.S., Wilkinson R J., O’Garra A., Martineau A.R. Neutrophils in tuberculosis: friend or foe? Trends Immunol., 2012, vol. 33. no. 1, pp. 14–25. doi: 10.1016/j.it.2011.10.003
- Lyu J., Narum D.E., Baldwin S.L., Larsen S.E., Bai X., Griffith D.E., Dartois V., Naidoo T., Steyn A.J. C., Coler R.N., Chan E.D. Understanding the development of tuberculous granulomas: insights into host protection and pathogenesis, a review in humans and animals. Front. Immunol., 2024, vol. 15: 1427559. doi: 10.3389/fimmu.2024.1427559
- Majorov K.B., Lyadova I.V., Kondratieva T.K., Eruslanov E.B., Rubakova E.I., Orlova M.O., Mischenko V.V., Apt A.S. Different innate ability of I/St and A/Sn mice to combat virulent Mycobacterium tuberculosis: phenotypes expressed in lung and extrapulmonary macrophages. Infect. Immun., 2003, vol. 71, no. 2, pp. 697–707. doi: 10.1128/IAI.71.2.697-707.2003
- McCaffrey E.F., Donato M., Keren L., Chen Z., Delmastro A., Fitzpatrick M.B., Gupta S., Greenwald N.F., Baranski A. , Graf W., Kumar R., Bosse M., Fullaway C.C., Ramdial P.K., Forgó E., Jojic V., Van Valen D., Mehra S., Khader S.A., Bendall S.C., van de Rijn M., Kalman D., Kaushal D., Hunter R.L., Banaei N., Steyn A.J., Khatri P., Angelo M. The immunoregulatory landscape of human tuberculosis granulomas. Nat. Immunol., 2022, vol. 23, no. 2, pp. 318–329. doi: 10.1038/s41590-021-01121-x
- McDonough K.A., Kress Y. Cytotoxicity for lung epithelial cells is a virulence-associated phenotype of Mycobacterium tuberculosis. Infect. Immun., 1995, vol. 63, no. 12, pp. 4802–4811. doi: 10.1128/iai.63.12.4802-4811.1995
- Meade R.K., Smith C.M. Immunological roads diverged: mapping tuberculosis outcomes in mice. Trends Microbiol., 2025, vol. 33, no. 1, pp. 15–33. doi: 10.1016/j.tim.2024.06.007
- Mihret A. The role of dendritic cells in mycobacterium tuberculosis infection. Virulence 2012, vol. 3, no. 7, pp. 654–659. doi: 10.4161/viru.22586
- Mischenko V.V., Kapina M.A., Eruslanov E.B., Kondratieva E.V., Lyadova I.V., Young D.B., Apt A.S. Mycobacterial dissemination and cellular responses after 1-lobe restricted tuberculosis infection of genetically susceptible and resistant mice. J. Infect. Dis., 2004, vol. 190, no. 12, pp. 2137–2145. doi: 10.1086/425909
- Muefong C.N., Sutherland J.S. Neutrophils in tuberculosis-associated inflammation and lung pathology. Front. Immunol., 2020, vol. 11: 962. doi: 10.3389/fimmu.2020.00962
- Nandi B., Behar S.M. Regulation of neutrophils by interferon γ limits lung inflammation during tuberculosis infection. J. Exp. Med., 2011, vol. 208, no. 11, pp. 2251–2262. doi: 10.1084/jem.20110919
- Nardell E.A. Transmission and institutional infection control of tuberculosis. Cold Spring Harb. Perspect. Med., 2015, vol. 6, no. 2: a018192. doi: 10.1101/cshperspect.a018192
- Niazi M.K., Dhulekar N., Schmidt D., Major S., Cooper R., Abeijon C., Gatti D.M., Kramnik I., Yener B., Gurcan M., Beamer G. Lung necrosis and neutrophils reflect common pathways of susceptibility to Mycobacterium tuberculosis in genetically diverse, immune-competent mice. Dis. Model. Mech., 2015, vol. 8, no. 9, pp. 1141–1153. doi: 10.1242/dmm.020867
- O’Grady F., Riley R.L. Experimental airborne tuberculosis. Adv. Tuberc. Rev., 1963, vol. 12, pp. 150–190.
- Padilla-Carlin D.J., McMurray D.N., Hickey A.J. The guinea pig as a model of infectious diseases. Comp. Med., 2008, vol. 58, no. 4, pp. 324–340.
- Pai S., Muruganandah V., Kupz A. What lies beneath the airway mucosal barrier? Throwing the spotlight on antigen-presenting cell function in the lower respiratory tract. Clin. Transl. Immunology, 2020, vol. 9, no. 7: e1158. doi: 10.1002/cti2.1158
- Peters М., Peters K., Bufens A. Regulation of lung immunity by dendritic cells: Implications for asthma, chronic obstructive pulmonary disease and infectious disease. Innate Immun., 2019, vol. 25, no. 6, pp. 326–336. doi: 10.1177/1753425918821732
- Pisu D. Huang L., Narang V., Theriault M., Lê-Bury G., Lee B., Lakudzala A.E., Mzinza D.T., Mhango D.V., Mitini-Nkhoma S.C., Jambo K.C., Singhal A., Mwandumba H.C., Russell D.G. Single cell analysis of M. tuberculosis phenotype and macrophage lineages in the infected lung. J. Exp. Med., 2021, vol. 218, no. 9: e20210615. doi: 10.1084/jem.20210615
- Pisu D., Johnston L., Mattila J.T., Russell D.G. The frequency of CD38+ alveolar macrophages correlates with early control of M. tuberculosis in the murine lung. Nature Communications 2024, vol. 15, no. 1: 8522. doi: 10.1038/s41467-024-52846-w
- Plumlee C.R., Barrett H.W., Shao D.E., Lien K.A., Cross L.M. , Cohen S.B., Edlefsen P.T., Urdahl K.B. Assessing vaccine-mediated protection in an ultra-low dose Mycobacterium tuberculosis murine model. PLoS Pathog., 2023, vol. 19, no. 11: e1011825. doi: 10.1371/journal.ppat.1011825
- Plumlee C.R., Duffy F.J., Gern B.H., Delahaye J.L., Cohen S.B., Stoltzfus C.R., Rustad T.R., Hansen S.G., Axthelm M.K., Picker L.J., Aitchison J.D., Sherman D.R., Ganusov V.V., Gerner M.Y., Zak D.E., Urdahl K.B. Ultra-low dose aerosol infection of mice with Mycobacterium tuberculosis more closely models human tuberculosis. Cell Host Microbe, 2021, vol. 29, no. 1, pp. 68–82.e5. doi: 10.1016/j.chom.2020.10.003
- Reiley W.W., Calayag M.D., Wittmer S.T., Huntington J.L., Pearl J.E., Fountain J.J., Martino C.A., Roberts A.D., Cooper A.M., Winslow G.M., Woodland D.L. ESAT-6-specific CD4 T cell responses to aerosol Mycobacterium tuberculosis infection are initiated in the mediastinal lymph nodes. Proc. Natl Acad. Sci. USA, 2008, vol. 105, no. 31, pp. 10961–10966. doi: 10.1073/pnas.0801496105
- Reuschl A.-K., Edwards M.R., Parker R., Connell D.W., Hoang L., Halliday A., Jarvis H., Siddiqui N., Wright C., Bremang S., Newton S.M., Beverley P., Shattock R.J., Kon O.M., Lalvani A. Innate activation of human primary epithelial cells broadens the host response to Mycobacterium tuberculosis in the airways. PLoS Pathog., 2017, vol. 13: e1006577–26. doi: 10.1371/journal.ppat.1006577
- Riley R.L., Mills C.C., Nyka W., Weinstock N., Storey P.B., Sultan L.U., Riley M.C., Wells W.F. Aerial dissemination of pulmonary tuberculosis. A two year study of contagion in a tuberculosis ward. Am. J. Hyg., 1959, vol. 70, pp. 185–196.
- Russell D.G., Simwela N.V., Mattila J.T., Flynn J., Mwandumba H.C. , Pisu D. How macrophage heterogeneity affects tuberculosis disease and therapy. Nat. Rev. Immunol., 2025. doi: 10.1038/s41577-024-01124-3
- Ryndak M.B., Chandra D., Laal S. Understanding dissemination of Mycobacterium tuberculosis from the lungs during primary infection. J. Med. Microbiol., 2016, vol. 65, no. 5, pp. 362–369. doi: 10.1099/jmm.0.000238
- Saini D., Hopkins G.W., Seay S.A., Chen C.J., Perley C.C., Click E.M., Frothingham R. Ultra-low dose of Mycobacterium tuberculosis aerosol creates partial infection in mice. Tuberculosis (Edinb.), 2012, vol. 92, no. 2, pp. 160–165. doi: 10.1016/j.tube.2011.11.007
- Sankar P., Mishra B.B. Early innate cell interactions with Mycobacterium tuberculosis in protection and pathology of tuberculosis. Front. Immunol., 2023, vol. 14: 1260859. doi: 10.3389/fimmu.2023.1260859
- Sawyer A.J., Patrick E., Edwards J., Wilmott J.S., Fielder T., Yang Q., Barber D.L., Ernst J.D., Britton W.J., Palendira U., Chen X., Feng C.G. Spatial mapping reveals granuloma diversity and histopathological superstructure in human tuberculosis. J. Exp. Med., 2023, vol. 220, no. 6: e20221392. doi: 10.1084/jem.20221392
- Sutherland J.S., Jeffries D.J., Donkor S., Walther B., Hill P.C., Adetifa I.M., Adegbola R.A., Ota M.O. High Granulocyte/Lymphocyte ratio and paucity of NKT cells defines tb disease in a tb-endemic setting. Tuberculosis (Edinb.), 2009, vol. 89, no. 6, pp. 398–404. doi: 10.1016/j.tube.2009.07.004
- Tian T., Woodworth J., Skold M., Behar S.M. In vivo depletion of Cd11c+ cells delays the Cd4+ t-cell response to Мycobacterium tuberculosis and exacerbates the outcome of infection. J. Immunol., 2005, vol. 175, no. 5, pp. 3268–3272. doi: 10.4049/jimmunol.175.5.3268
- Ulrichs T., Kosmiadi G.A., Trusov V., Jörg S., Pradl L.,Titukhina M., Mishenko V., Gushina N., Kaufmann S.H. E. Human tuberculous granulomas induce peripheral lymphoid follicle-like structures to orchestrate local host defense in the lung. J. Pathol., 2004, vol. 204, no. 2, pp. 217–228. doi: 10.1002/path.1628
- Urdahl K.B. Understanding and overcoming the barriers to T cell-mediated immunity against tuberculosis. Semin. Immunol., 2014, vol. 26, no. 6, pp. 578–587. doi: 10.1016/j.smim.2014.10.003
- Verissimo L., Castro F.C., Muñoz-Mérida A., Almeida T., Gaigher A., Neves F., Flajnik M.F., Ohta Y. An ancestral Major Histocompatibility Complex organization in cartilaginous fish: reconstructing MHC origin and evolution. Mol. Biol. Evol., 2023, vol. 40, no. 12: msad262. doi: 10.1093/molbev/msa
- Via L.E., Lin P.L., Ray S.M., Carrillo J., Allen S.S., Eum S.Y. , Taylor K., Klein E., Manjunatha U., Gonzales J., Lee E.G., Park S.K., Raleigh J.A., Cho S.N., McMurray D.N. , Flynn J. L ., Barry C.E. 3rd. Tuberculous granulomas are hypoxic in guinea pigs, rabbits, and nonhuman primates. Infect. Immun., 2008, vol. 76, no. 6, pp. 2333–2340. doi: 10.1128/IAI.01515-07
- Vidal S., Malo D., Vogan K., Skamene E., Gros P. Natural resistance to infection with intracellular parasites: isolation of a candidate for Bcg. Cell, 1993, vol. 73, no. 3, pp. 469–485. doi: 10.1016/0092-8674(93)90135-d
- Wells W.F., Ratcliffe H.L., Grumb C. On the mechanics of droplet nuclei infection: quantitative experimental air-borne tuberculosis in rabbits. Am. J. Hyg., 1948, vol. 47, no. 1, pp. 11–28. doi: 10.1093/oxfordjournals.aje.a119179
- Williams A., Orme I.M. Animal models of tuberculosis: an overview. Microbiol. Spectr., 2016, vol. 4: 4. doi: 10.1128/microbiolspec.TBTB2-0004-2015
- Woo Y.D., Jeong D., Chung D.H. Development and functions of alveolar macrophages. Mol. Cells, 2021, vol. 44, no. 5, pp. 292–330. doi: 10.14348/molcells.2021.0058
- Yeremeev V., Linge I., Kondratieva T., Apt A. Neutrophils exacerbate tuberculosis infection in genetically susceptible mice. Tuberculosis (Edinb.), 2015, vol. 95, no. 4, pp. 447–451. doi: 10.1016/j.tube.2015.03.007
Supplementary files