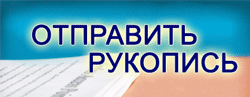Характеристика системы «перекисного окисления липидов — антиоксидантной защиты» плазмы крови и состава микрофлоры слизистой оболочки полости носа при различных фенотипах хронического ринита
- Авторы: Смирнова О.В.1,2, Гончарова Н.С.1
-
Учреждения:
- ФГБНУ Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук», обособленное подразделение «НИИ медицинских проблем Севера»
- Сибирский федеральный университет
- Выпуск: Том 15, № 2 (2025)
- Страницы: 329-340
- Раздел: ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
- Дата подачи: 20.09.2024
- Дата принятия к публикации: 28.12.2024
- Дата публикации: 08.07.2025
- URL: https://iimmun.ru/iimm/article/view/17779
- DOI: https://doi.org/10.15789/2220-7619-COT-17779
- ID: 17779
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Хронические риниты являются самыми распространенными заболеваниями ЛОР-органов. В течение последних десяти лет отмечен рост заболеваемости хроническим ринитом, при всех формах хронического ринита происходит снижение защитных свойств слизистой оболочки полости носа, что может сопровождаться активацией ее бактериальной микрофлоры. Дисбиоз микробиоты слизистой оболочки носовой полости способствует развитию воспаления, активации иммунных клеток с развитием иммунных реакций, активизации процессов липопероксидации и изменению активности факторов антиоксидантной защиты в носовой полости и в крови. Имеются данные, что разные фенотипические варианты хронических ринитов характеризуются своим спектром микроорганизмов в носовой полости, который существенно влияет на течение заболеваний, а также на состояние системы ПОЛ–АОЗ. Целью нашей работы явилось сравнительное изучение количественного состава микробной флоры и показателей системы ПОЛ–АОЗ у пациентов с различными формами хронического ринита. В работе приведены результаты лабораторного обследования больных с хроническим ринитом общей численностью 165 человек, из них 45 пациентов с хроническим аллергическим, 49 пациентов с хроническим вазомоторным, 32 больных хроническим атрофическим, 39 пациент с хроническим инфекционным ринитом. Контрольной группой служили 40 практически здоровых доноров. В соответствии с дизайном исследования на первом этапе всем обследуемым были проведены бактериологическое исследование слизистой оболочки полости носа, количественная оценка выделенных представителей микрофлоры. На втором — спектрофотометрическим способом в плазме крови определены показатели ПОЛ–АОЗ. Проводился статистический анализ полученных результатов с использованием пакета прикладных программ Statistica 8.0. Для оценки различий в группах использовались непараметрические критерии Краскела–Уоллиса, Манна–Уитни и Уилкоксона. Критический уровень статистической значимости при проверки научных гипотез считался равным р < 0,05. Данные представлены в виде медианы (Me) и интерквартильного размаха (Q25–Q75). Изменения микробиома слизистой оболочки полости носа индуцируют снижение активности факторов антиоксидантной защиты при всех изучаемых фенотипических формах хронического ринита. В случаях хронического аллергического, вазомоторного и инфекционного ринита наблюдается значительный рост уровня как первичных, так и вторичных продуктов липопероксидации. Исследования показывают, что наибольшее повышение активности перекисного окисления липидов зафиксировано при хроническом инфекционном рините, так же как и наибольший дисбиоз слизистой оболочки полости носа выявлен именно при данном фенотипе. Таким образом, ведущим патогенетическим механизмом при хронических ринитах является гипоксия, вызванная интермиттирующей заложенностью носа, которая способствует изменению в системе ПОЛ–АОЗ. При этом активированная микробная флора также способствует усилению данных изменений.
Полный текст
Введение
Хронические риниты являются самыми распространенными заболеваниями ЛОР-органов. В течение последних десяти лет отмечен рост заболеваемости хроническим ринитом, обусловленный ухудшающимися экологическими условиями, увеличением респираторных аллергенов и вирусных заболеваний, прогрессирующим снижением местного и общего иммунитета, поздней обращаемостью за медицинской помощью [1, 3]. При всех формах хронического ринита происходит снижение защитных свойств слизистой оболочки полости носа, что может сопровождаться активацией ее бактериальной микрофлоры. Дисбиоз микробиоты слизистой оболочки носовой полости способствует развитию воспаления, активации иммунных клеток с развитием иммунных реакций, активизации процессов липопероксидации и изменению активности факторов антиоксидантной защиты в носовой полости и в крови [11]. Имеются данные, что разные фенотипические варианты хронических ринитов (вазомоторный, аллергический, атрофический и инфекционный) характеризуются своим спектром микроорганизмов в носовой полости, который существенно влияет на течение заболеваний, а также на состояние системы ПОЛ–АОЗ [7, 13]. Учитывая, что хронические риниты первично имеют сходную симптоматику, выявление индивидуального набора возбудителей, а также определение показателей системы ПОЛ–АОЗ позволит осуществить и оптимизировать своевременное, персонифицированное лечение и профилактику данных состояний [4, 5, 6]. Все это свидетельствует об актуальности изучения микрофлоры слизистой оболочки носа, показателей липопероксидации и факторов антиоксидантной защиты при различных фенотипических вариантах хронического ринита.
Целью нашей работы явилось сравнительное изучение количественного состава микробной флоры и показателей системы ПОЛ–АОЗ у пациентов с различными формами хронического ринита.
Материалы и методы
В работе приведены результаты комплексного лабораторного обследования пациентов клиники ООО «ЛОР центр» (г. Красноярск) в период с 01.02.2021 по 02.09.2022 с ХР общей численностью 165 человек (77 мужчин и 88 женщин, средний возраст 43,5±0,9 года). В их числе были 45 пациентов с хроническим аллергическим ринитом (ХАлР) (21 мужчина и 24 женщины) в возрасте от 20 до 67 лет (средний возраст 45,1±1,9 года), 49 пациентов с хроническим вазомоторным ринитом (ХВР) (26 мужчин и 23 женщины) в возрасте от 24 до 55 лет (средний возраст 43,1±1,9 года), 32 больных хроническим атрофическим ринитом (ХАР) (12 мужчин и 20 женщин) в возрасте от 33 до 70 лет (средний возраст 50,3±2,9 года), 39 больных хроническим инфекционным ринитом (ХИР) (18 мужчин и 21 женщин) в возрасте от 30 до 60 лет (средний возраст 46,3±2,7 года). Контрольной группой служили 40 практически здоровых доноров, не имеющих оториноларингологических жалоб и ринологического анамнеза, у которых отсутствовали изменения слизистой оболочки полости носа по результатам риноэндоскопии (18 мужчин и 22 женщин) в возрасте от 18 до 65 лет (средний возраст 43,8±1,3 лет). Все исследуемые группы были сопоставимы по полу (р = 0,7) и возрасту (р = 0,6). Критериями включения в группы пациентов и контрольную группу явились: мужской и женский пол, возраст от 18 до 70 лет, информированное согласие на участие в исследовании. Критериями включения в группы больных являлись подтвержденные диагнозы: ХАлР, ХВР, ХАР, ХИР. Диагноз ХР верифицировался по клиническим данным, данным анамнеза и риноэндоскопии с использованием общепринятой классификации на основании клинических рекомендаций Министерства здравоохранения РФ (2022). Диагностика ХР осуществлялась врачом-оториноларингологом при обращении пациента за лечением, с учетом полного комплекса инструментального обследования. Инфекция ВИЧ, туберкулез, наличие наркотической зависимости и тяжелых соматических заболеваний были использованы в качестве критериев для исключения из вышеупомянутых групп. Исследование одобрено ЛЭК ФИЦ КНЦ СО РАН (протокол № 11 от 01.11.2020).
Всем пациентам нами было проведено бактериологическое исследование слизистой оболочки полости носа. Взятие материала для этого исследования производилось при передней риноскопии со слизистой средней носовой раковины полости носа стерильным микробиологическим тампоном. Микробиологический тампон помещали в стерильную транспортную среду Эймса (Greetmed, Китай) с активированным углем и в течение 2 часов доставляли в лабораторию. Посев с тампона на поверхность твердых питательных сред осуществляется стандартным полуколичественным методом. Выделение микроорганизмов проводили на питательных средах: 5% кровяном агаре, стафилококкагаре, агаре Эндо и Сабуро. Культивирование для стрептококка и гемофильной палочки проводилось при повышенной влажности среды в атмосфере, содержащей 5–10% СО2. Посев проводили секторным методом. Засеянные среды инкубировали в термостате при температуре 37°С в течение 24 часов. При необходимости выросшие колонии пересевали на скошенный мясопептонный агар для получения чистых культур и изучения признаков, используемых при идентификации. О чистоте культуры судили с помощью визуального и микроскопического контроля. Идентификацию выделенных культур проводили с использованием наиболее рационального в каждом случае набора методов (классические тесты, хромогенные среды, иммуносерологические методы, масс-спектрометрия Maldi-ToF). Рост микробов в 102 КОЕ/мл определяли как скудный, в 103 КОЕ/мл — как умеренный; в 105 и выше КОЕ/мл — как массивный [10].
В соответствии с дизайном исследования первичный забор материала проводился до начала терапии. На первом этапе было проведено исследование микробиома слизистой оболочки полости носа, а также количественная оценка выделенных представителей микрофлоры у пациентов с хроническим ринитом в зависимости от его фенотипа.
На следующем этапе цельную гепаринизированную кровь больного, взятую при обращении за медицинской помощью до назначения патогенетической терапии, центрифугировали 15 минут при 1700g, отбирали аликвоты плазмы и хранили при температуре –20°C. Определение показателей ПОЛ–АОЗ в плазме пациентов и лиц контрольной группы производились на спектрофотометре «Thermo Scientific Genesys 10 vis» (США). Определение содержания диеновых конъюгатов (DC) в плазме крови проводили путем реакции плазмы в смеси изопропанол/гептан (1:1) с добавлением НСl и фотометрированием при 232 нм против контрольной пробы. Определение содержания малонового диальдегида (MDA) проводили методом, взаимодействии его с 2-тиобарбитуровой кислотой и образованием хромогена с максимум поглощения в при длине волны 532 нм. Активность супероксиддисмутазы (SOD) определяли по методике Е.Е. Дубининой и др. [16, 21]. Метод основан на способности SOD конкурировать с нитросиним тетразолием за супероксидные анион-радикалы. Активность каталазы (CAT) определяли по снижению количества пероксида в пробе. Восстановленный глутатион (GSH) определяли в реакции с 5,5’-дитио-бис-2-нитробензойной кислотой. Определение содержания церулоплазмина (CP) проводилось методом, основанным на окислении n-фенилендамина. По скорости синтеза глутатион-S-конъюгатов между восстановленным глутатионом и 1-хлор-2,4-динитробензолом определяли активность глутатион-S-трансферазы (GST). Активность глутатионпероксидазы (GPO) рассчитывали по взаимодействию гидроперекиси трет-бутила с глутатионом [14, 22].
Проводился статистический анализ полученных результатов с использованием пакета прикладных программ Statistica for Windows 8.0 (StatSoft Inc., США, 2008) и Microsoft Excel (Microsoft, США, 2007). Для оценки различий в группах использовались непараметрические критерии Краскела–Уоллиса (для трех и более групп сравнения), Манна–Уитни и Уилкоксона (для попарного сравнения). Критический уровень статистической значимости при проверки научных гипотез считался равным р < 0,05. Данные представлены в виде медианы (Me) и интерквартильного размаха (Q25–Q75) [2].
Результаты
На первом этапе исследования проведена количественная оценка выделенных представителей микрофлоры (табл. 1). У больных с ХАлР по данным бактериологического исследования слизистой полости носа выявлено статистически значимое увеличение титров выделенных микроорганизмов рода Enterobacter и Сorynebacterium относительно пациентов с ХВР, ХАР и контрольной группы. У больных с ХВР по данным бактериологического исследования слизистой полости носа выявлено статистически значимое увеличение титров выделенных микроорганизмов рода Klebsiella относительно пациентов с ХАлР, ХИР. У больных с ХАР по данным бактериологического исследования слизистой полости носа выявлено статистически значимое увеличение титров выделенных микроорганизмов рода Acinetobacter относительно пациентов с ХАлР, ХВР; рода Klebsiella относительно пациентов с ХАлР, ХВР, ХАР и контрольной группы.
Таблица 1. Количество выделенных микроорганизмов со слизистой оболочки полости носа у больных хроническим ринитом в зависимости от фенотипа
Table 1. The number of isolated microorganisms from the mucous membrane of the nasal cavity in patients with chronic rhinitis depending on the phenotype
Род выделенного микроорганизма (КОЕ/мл) The genus of the selected microorganism (CFU/ml) | Контрольная группа Control group n = 40 (1) | Больные ХАлР Patients with CAlR n = 45 (2) | Больные ХВР Patients with CVR n = 49 (3) | Больные ХАР Patients with CAR n = 32 (4) | Больные ХИР Patients with CIR n = 39 (5) | |||||
Me | Q25—Q75 | Me | Q25—Q75 | Me | Q25—Q75 | Me | Q25—Q75 | Me | Q25—Q75 | |
Кокковая флора/Coccal flora | ||||||||||
Staphylococcus spp. | 100 | 100; 1000 | 100 | 100; 1000 | 100 | 100; 1000 | 100 | 100; 1000 | 1000 | 100; 1 000 000 |
p1–5< 0,001 p2–5 < 0,001 p3–5 < 0,001 p4–5 < 0,001 | ||||||||||
Streptococcus spp. | 100 | 100; 1000 | 100 | 100; 550 | 550 | 100; 1000 | 100 | 100; 1000 | 100 000 | 1000; 100 000 |
p1–5 < 0,001 p2–5 < 0,001 p3–5 = 0,005 p4–5 = 0,006 | ||||||||||
Neisseriae spp. | 100 | 100; 1000 | 100 | 100; 1000 | 100 | 100; 1000 | 100 | 100; 100 | 1000 | 1000; 100 000 |
p1–5 = 0,002 p2–5 = 0,03 p4–5 = 0,01 | ||||||||||
Acinetobacter spp. | 100 | 100; 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10; 100 | 1000 | 1000; 10 000 |
p1–2 < 0,001 | p2–4 < 0,001 p3–4 < 0,001 | p2–5 <0,001 p3–5 <0,001 p4–5 = 0,01 | ||||||||
Палочковидные бактерии/Rod-shaped bacteria | ||||||||||
Klebsiella spp. | 100 | 100; 100 | 0 | 0 | 550 | 100; 1000 | 10 000 | 10 000; 100 000 | 0 | 0 |
p1–2 < 0,001 | р2–3 < 0,001 | p1–4 = 0,002 p2–4 < 0,001 p3–4 = 0,03 | p1–5 < 0,001 p3–5< 0,001 p4–5 < 0,001 | |||||||
Escherichia spp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 000 | 10 000; 100 000 |
p1–5 < 0,001 p2–5 < 0,001 p3–5 < 0,001 p4–5 < 0,001 | ||||||||||
Род выделенного микроорганизма (КОЕ/мл) The genus of the selected microorganism (CFU/ml) | Контрольная группа Control group n = 40 (1) | Больные ХАлР Patients with CAlR n = 45 (2) | Больные ХВР Patients with CVR n = 49 (3) | Больные ХАР Patients with CAR n = 32 (4) | Больные ХИР Patients with CIR n = 39 (5) | |||||
Me | Q25—Q75 | Me | Q25—Q75 | Me | Q25—Q75 | Me | Q25—Q75 | Me | Q25—Q75 | |
Палочковидные бактерии/Rod-shaped bacteria | ||||||||||
Enterobacter spp. | 0 | 0 | 100 | 100; 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000; 10 000 |
p1–2 < 0,001 | p2–3 < 0,001 | p2–4 < 0,001 | p1–5 < 0,001 p2–5 < 0,001 p3–5 < 0,001 p4–5 < 0,001 | |||||||
Corynebacterium spp. | 0 | 0 | 550 | 100; 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000; 1000 |
p1–2 < 0,001 | p2–3 < 0,001 | p2–4 < 0,001 | p1–5 < 0,001 p3–5 < 0,001 p4–5 < 0,001 | |||||||
Pseudomonas spp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000; 1000 |
p1–5 < 0,001 p2–5 < 0,001 p3–5 < 0,001 p4–5 < 0,001 | ||||||||||
Proteus spp. | 100 | 100; 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000; 10 000 |
p1–2 < 0,001 | p1–3 < 0,001 | p1–4 < 0,001 | p2–5 < 0,001 p3–5 < 0,001 p4–5 < 0,001 | |||||||
Грибковая флора/Fungal flora | ||||||||||
Candida sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 1000; 10 000 |
p1–5 < 0,001 p2–5 < 0,001 p3–5 < 0,001 p4–5 < 0,001 | ||||||||||
Примечание. ХАлР — хронический аллергический ринит; ХВР — хронический вазомоторный ринит; ХАР — хронический атрофический ринит; ХИР — хронический инфекционный ринит. Достоверные различия: p1–2 — между группой ХАлР и контрольной группой; p1–3 — между группой ХВР и контрольной группой; p1–4 — между группой ХАР и контрольной группой; p1–5 — между группой ХИР и контрольной группой; p2–3 — между группами ХАлР и ХВР; p2–4 — между группами ХАлР и ХАР; p2–5 — между группами ХАлР и ХИР; p3–4 — между группами ХВР и ХАР; p3–5 — между группами ХВР и ХИР; p4–5 — между группами ХАР и ХИР; ХАлР — хронический аллергический ринит; ХВР — хронический вазомоторный ринит; ХАР — хронический атрофический ринит; ХИР — хронический инфекционный ринит.
Note. CAlR — chronic allergic rhinitis; CVR — chronic vasomotor rhinitis; CAR — chronic atrophic rhinitis; CIR — chronic infectious rhinitis. Significant differences: p1–2 — between the СAlR group and the control group; p1–3 — between the СVR group and the control group; p1–4 — between the СAR group and the control group; p1–5 — between the СIR group and the control group; p2–3 — between СAlR and СVR groups; p2–4 — between СAlR and СAR groups; p2–5 — between СAlR and СIR groups; p3–4 — between the СVR and СAR groups; p3–5 — between СVR and СIR groups; p4–5 — between the СAR and СIR groups; СAlR — chronic allergic rhinitis; СVR — chronic vasomotor rhinitis; СAR — chronic atrophic rhinitis; СIR — chronic infectious rhinitis.
У пациентов из группы контроля в большинстве случаев присутствует микрофлора (80%). Микробиоценоз полости носа — динамичное состояние, композицию которого составляют множество микроорганизмов как постоянно персистирующих на слизистых оболочках дыхательных путей, так и случайно попадающих в нос с вдыхаемым воздухом [9]. У пациентов с хроническим инфекционным ринитом микрофлора присутствует в 100% случаев, что объясняется этиологией данного заболевания — наличием инфекционных агентов. Наименьшее количество представителей микробиоты выявлено у пациентов с хроническим вазомоторным ринитом, что вероятно обусловлено активным механическим очищением слизью слизистой носовой полости и частым использованием в лечении таких больных интраназальных глюкокортикостероидов с противовоспалительным действием и сосудосуживающих спреев [8].
В группе контроля выявлен рост кокковой и палочковой флоры, у больных хроническим инфекционным ринитом определяются все представители микробиоты: кокки, палочки и грибы, появление последних, вероятно, обусловлено частым лечением антибактериальными лекарственными средствами. При хроническом атрофическом рините доля палочковидных бактерий преобладает относительно всех других форм ринита и контрольной группы и связана с частым обнаружением Klebsiella spp., являющейся одним из главных этиологических факторов развития атрофии слизистой оболочки полости носа.
При оценке кокковой флоры у здоровых пациентов выявляются представители рода Staphylococcus, из его видов наиболее чаще встречается S. epidermidis, подобные изменения обнаружены при хроническом аллергическом, вазомоторном, атрофическом рините. Известно, что при длительных ринитах в 25–28% проб при исследовании из отделяемого полости носа и носоглотки находят S. epidermidis [19], его штаммы, выделенные при различных воспалительных процессах, обладают рядом генов вирулентности, ответственных за адгезию, инвазию, распространение и персистенцию микроорганизмов, благодаря наличию адгезинов, токсинов и ферментов, позволяющих «уходить» от воздействия иммунной системы хозяина и вызывать в месте локализации инфекционный процесс [18]. При хроническом инфекционном рините на первом месте среди представителей рода Staphylococcus выявлялся вид S. aureus. S. aureus является доказанным патогенным представителем микробиоты полости носа, способствующим хронизации воспаления при ринитах различного генеза [19]. Уникальная способность S. aureus продуцировать энтеротоксины со свойствами суперантигенов, влияющих на локальную поликлональную активность лимфоцитов, позволяет этому микроорганизму занимать одно из доминирующих положений в микробиоте верхних дыхательных путей [12, 15].
Флора из рода Streptococcus представлена S. viridans, выявлена у всех пациентов с хроническим ринитом, кроме больных из группы с хроническим инфекционным ринитом. При хроническом инфекционном рините микрофлора рода Streptococcus представлена S. pyogenes, ответственным за появление гнойного отделяемого из полости носа. В контрольной группе род Neisseria представлен видами N. flava, N. mucosa, аналогичные у всех пациентов с хроническим ринитом, кроме больных с хроническим инфекционным ринитом, где обнаруживается патогенный N. meningitidis, способный утяжелить клиническое течение хронического ринита.
Acinetobacter в группе контроля представлен видом A. baumannii, при хроническом атрофическом и инфекционном рините выявляются 3 представителя данного рода: A. baumannii, A. lwoffii и с наименьшим количеством A. pittii при хроническом атрофическом рините. У практически здоровых добровольцев бактерии рода Klebsiella представлены видами K. pneumoniae, K. oxytoca, при хроническом вазомоторном рините выявляется только K. oxytoca. Практически у всех пациентов с хроническим атрофическим ринитом выявляются все изученные виды микроорганизмов рода Klebsiella, что указывает на важнейшую патогенетическую роль данного возбудителя в развитии дегенеративных изменений эпителиоцитов при атрофическом рините.
Микрофлора рода Enterobacter обнаруживается при хроническом аллергическом рините (E. cloacae, E. sakazakii) и хроническом инфекционном рините (E. sakazakii). Увеличение представительства условно-патогенных бактерий семейства Enterobacteriacea на слизистой оболочке носа при хроническом рините свидетельствует о дисбиотическом изменении и их несомненной роли в развитии воспалительного процесса. Микрофлора рода Сorynebacterium встречается при хроническом аллергическом рините (С. ulcerans, С. striatum) и хроническом инфекционном рините (С. ulcerans). Род Proteus, а именно вид P. mirabilis встречается в одинаковом процентном соотношении у пациентов из группы контроля и у пациентов с хроническим инфекционным ринитом. E. coli, P. aeruginosa и Candida встречаются только у пациентов с хроническим инфекционным ринитом.
У пациентов с хроническим инфекционным ринитом из кокковой флоры выявлено статистически значимое увеличение титров выделенных микроорганизмов рода Staphylococcus, Streptococcus, Neisseriae относительно контрольной группы. Из палочковидной флоры у пациентов с хроническим аллергическим ринитом выявлено статистически значимое увеличение титров представителей рода Enterobacter, Corynebacterium относительно контрольной группы, у пациентов с хроническим вазомоторным и атрофическим ринитом — увеличение титра микроорганизмов рода Klebsiella относительно контрольной группы, у пациентов с хроническим инфекционным ринитом статистически значимое увеличение титров высеянной микрофлоры рода Klebsiella, Escherichia, Enterobacter, Corynebacterium, Pseudomonas относительно контрольной группы. Титры рода Candida определяются только при хроническом инфекционном рините.
На следующем этапе исследования мы изучили особенности системы ПОЛ–АОЗ в плазме крови больных с ХАлР, ХВР, ХАР и ХИР (табл. 2). Анализ полученных результатов исследования прооксидантной системы в плазме крови у больных различными вариантами хронического ринита выявил достоверно значимое увеличение медианы концентрации DC и MDA у пациентов с ХАлР, ХАР и ХИР относительно контрольной группы и пациентов с ХВР. Показатель MDA максимально возрастал при ХАР и ХИР — в 1,54 раза, при ХАлР — в 1,33 раз относительно нормальных величин. Медиана концентрации DC максимально возрастал при ХАР — в 1,44 раза, при ХИР — в 1,42 раза, а при ХАлР — в 1,33 раз относительно нормальных величин. Повышенное содержание малонового диальдегида и диеновых конъюгат расценивается, как усиление перекисного окисления липидов мембран клеток в сторону накопления прооксидантов [17, 20].
Таблица 2. Показатели прооксидантной системы в плазме крови у больных хроническим ринитом в зависимости от фенотипа
Table 2. Prooxidant system indices in blood plasma of patients with chronic rhinitis depending on phenotype
Показатели Indicators | Контрольная группа Control group n = 40 (1) | Больные ХАлР Patients with CAlR n = 45 (2) | Больные ХВР Patients with CVR n = 49 (3) | Больные ХАР Patients with CAR n = 32 (4) | Больные ХИР Patients with CIR n = 39 (5) | |||||
Ме | Q25–Q75 | Ме | Q25–Q75 | Ме | Q25–Q75 | Ме | Q25–Q75 | Ме | Q25–Q75 | |
Диеновые конъюгаты, мкмоль/л Diene conjugates, µmol/l | 0,66 | 0,56–0,77 | 0,88 | 0,85–0,97 | 0,69 | 0,65–0,82 | 0,95 | 0,84–0,97 | 0,94 | 0,81–1,12 |
p1–2 < 0,001 | p2–3 < 0,001 | p1–4 < 0,001 p3–4 < 0,001 | p1–5 < 0,001 p3–5 < 0,001 | |||||||
Малоновый диальдегид, нмоль/1 г белка Malonyldialdehyde, nmol/1 g protein | 2,24 | 1,6–3,01 | 2,97 | 2,31–3,12 | 2,31 | 1,91–3,01 | 3,45 | 3,22–3,74 | 3,45 | 2,99–3,94 |
р1–2 = 0,006 | р2–3 = 0,009 | p1–4 < 0,001 p2–4 < 0,001 p3–4 < 0,001 | p1–5 < 0,001 p2–5 < 0,001 p3–5 < 0,001 | |||||||
Примечание. См. примечания к табл. 1.
Note. See notes to Table 1.
При исследовании антиоксидантной системы (табл. 3) было выявлено уменьшение медианы концентрации СОД у всех больных ХР относительно контрольной группы, большее снижение происходило в плазме пациентов с ХАР и ХИР, меньшее при ХАлР и ХВР. СОД при ХАР снижена в 1,48 раз, ХИР — в 1,46 раз, ХВР — в 1,3 раз, при ХАлР — в 1,23 раз. Медиана концентрации КАТ в плазме крови уменьшилась у всех больных ХР относительно контрольной группы, больше при ХАР и ХИР, меньше при ХАлР. CAT при ХАР и при ХИР снижена в 2 раза, при ХВР — в 1,78 раз, при ХАлР — в 1,42 раза. При исследовании антиоксидантной системы так же было выявлено достоверное уменьшение медианы концентрации ЦП у больных ХАР относительно контрольной группы и пациентов с ХАлР, ЦП при ХАР снижен в 1,26 раз относительно нормальных величин. В плазме крови определяется достоверно значимое уменьшение медианы концентрации ГСТ у больных ХИР относительно контрольной группы и групп пациентов с ХАлР и ХВР, при ХАР медиана концентрации данного показателя достоверно ниже чем у пациентов с ХАлР и ХВР. ГСТ при ХИР снижена в 1,29 раз относительно показателей в группе контроля.
Таблица 3. Показатели антиоксидантной системы в плазме крови у больных хроническим ринитом в зависимости от фенотипа
Table 3. Antioxidant system indices in blood plasma of patients with chronic rhinitis depending on phenotype
Показатели Indicators | Контрольная группа Control group n = 40 (1) | Больные ХАлР Patients with CAlR n = 45 (2) | Больные ХВР Patients with CVR n = 49 (3) | Больные ХАР Patients with CAR n = 32 (4) | Больные ХИР Patients with CIR n = 39 (5) | |||||
Ме | Q25–Q75 | Qе | Q25–Q75 | Ме | Q25–Q75 | Ме | Q25–Q75 | Ме | Q25–Q75 | |
SOD, ед/мин/1 г белка SOD, units/min/1 g protein | 180,8 | 147,3–195,87 | 146,3 | 132–155 | 137,5 | 128–146,1 | 121,8 | 107,2–140,5 | 123,6 | 105,3–138,5 |
p1–2 < 0,001 | p1–3 < 0,001 | p1–4 < 0,001 p2–4 < 0,001 p3–4 = 0,002 | p1–5 < 0,001 p2–5 < 0,001 p3–5 = 0,001 | |||||||
CAT, мкмоль/с/1 г белка CAT, µmol/s/1 g protein | 0,34 | 0,26–0,43 | 0,21 | 0,11–0,32 | 0,19 | 0,1–0,32 | 0,17 | 0,1–0,31 | 0,17 | 0,12–0,24 |
p1–2 < 0,001 | p1–3 < 0,001 | p1–4 < 0,001 | p1–5 < 0,001 | |||||||
CP, мг/л CP, mg/l | 192,5 | 161–249,6 | 200,98 | 165,3–246,3 | 200,98 | 156,3–246,7 | 151,9 | 114,8–248,8 | 209,6 | 133,2–256,3 |
p1–4 = 0,02 p2–4 = 0.02 | ||||||||||
GST, ммоль/мин/1 г белка GST, mmol/min/1 g protein | 40,56 | 35,4–43,4 | 43,2 | 38,6–49,7 | 42,26 | 36,67–47,8 | 34,26 | 24,25–43,1 | 31,21 | 22,41–39,5 |
p2–4 = 0,002 p3–4 = 0,006 | p1–5 < 0,001 p2–5 < 0,001 p3–5 < 0,001 | |||||||||
GPO, мкмоль/1 г белка GPO, µmol/1 g protein | 156,2 | 113,2–176,3 | 134,6 | 96,32–165 | 135 | 112–162,38 | 132,3 | 111,5–149,1 | 126,3 | 73,2–147 |
p1–5 < 0,001 | ||||||||||
GSH, нмоль/мл GSH, nmol/ml | 23,7 | 20,56–25,6 | 18,5 | 16,9–20,5 | 21,3 | 19,1–24 | 18 | 16–20,05 | 16,8 | 15,3,-19,8 |
p1–2 < 0,001 | p1–3 = 0,01 p2–3 < 0,001 | p1–4 < 0,001 p3–4 < 0,001 | p1–5 < 0,001 p2–5 = 0,03 p3–5 < 0,001 | |||||||
Примечание. См. примечания к табл. 1. SOD — супероксиддисмутаза, CAT — каталаза, CP — церулоплазмин, GST — глутатион-S-трансфераза, GPO — глутатионпероксидаза, GSH — глутатион.
Note. See notes to Table 1. SOD — superoxide dismutase, CAT — catalase, CP — ceruloplasmin, GST — glutathione S transferase, GPO — glutathione peroxidase, GSH — glutathione.
В ходе исследовании было выявлено уменьшение медианы концентрации ГПО у больных ХИР относительно контрольной группы, данный показатель при ХИР снижен в 1,23 раз. По результатам анализов произошло уменьшение медианы концентрации ВГ у всех больных ХР относительно контрольной группы, большее снижение происходило в плазме пациентов с ХИР, наименьшее снижение при ХВР. ВГ при ХИР снижена в 1,41 раз, ХАР — в 1,31 раз, ХАлР — в 1,28 раз, при ХВР — в 1,11 раз.
Таким образом при ХАлР и ХВР происходит достоверно значимое снижение концентрации медианы СОД, КАТ и ВГ относительно контрольной группы; при ХАР происходит достоверно значимое снижение концентрации медианы СОД, КАТ, ВГ и ЦП относительно контрольной группы, а при ХИР — достоверно значимое снижение концентрации медианы СОД, КАТ, ВГ, ГСТ и ГПО относительно контрольных цифр. Наибольшее количество изменений выявляется в работе антиоксидантной системы при ХИР, наименьшее — при ХАлР и ХВР.
Обсуждение
В контрольной группе в микрофлоре слизистой оболочки полости носа выявляются микроорганизмы: S. aureus, S. epidermidis, S. haemolyticus, S. saprophyticus, S. viridans, N. flava, N. mucosa, A. baumannii, K. pneumonia, K. oxytoca, P. mirabilis, которые не вызывают патологических изменений в месте их обнаружения, и это свидетельствует о высокой активности локального и системного иммунитета на данный момент у практически здоровых лиц. Интересным фактом является выявление P. mirabilis и A. baumannii у здоровых добровольцев при отсутствии у них клинических проявлений инфицирования, следовательно, возможно сосуществование с условно-патогенной флорой при сохранной функции иммунной системы, что доказывает отсутствие необходимости постоянной санации микрофлоры слизистой оболочки полости носа.
Таким образом, ведущим патогенетическим механизмом при хронических ринитах является гипоксия, вызванная интермиттирующей заложенностью носа, которая способствует изменению в системе ПОЛ–АОЗ. При этом активированная микробная флора также способствует усилению данных изменений за счет воспаления. При хроническом аллергическом рините выявляются S. aureus, S. epidermidis, S. viridans, N. flava, N. mucosa, E. cloacae, E. sakazakii, С. ulcerans, C. striatum, вероятнее всего данные микроорганизмы способствуют воспалению, персистируют в слизистой оболочке носовой полости, вызывают сенсибилизацию организма с последующими гиперреактивными иммунными реакциями. При исследовании системы ПОЛ–АОЗ плазмы выявлено усиление продуктов липопероксидации (↑DC, ↑MDA) и снижение антиоксидантной функции в виде уменьшения медианы концентрации супероксиддисмутазы, каталазы и восстановленного глутатиона.
Супероксиддисмутаза катализирует дисмутацию супероксида в кислород и пероксид водорода. Данный фермент играет важнейшую роль в антиоксидантной защите практически всех клеток, находящихся в контакте с кислородом. Функция каталазы связана с разрушением токсичного пероксида водорода, образующегося в ходе различных окислительных процессов в организме. Сниженная функция каталазы при хронических ринитах будет способствовать накоплению пероксида водорода в клетках, и вызывать усиление перекисного окисления липидов [17].
При хроническом вазомоторном рините выявляются S. epidermidis, S. viridans, N. flava, N. mucosa, K. oxytoca, но в небольшом количестве, что связано с особенностями течения данного заболевания и терапии, при этом ведущим патогенетическим механизмом при данном заболевании является нарушение нервной регуляции. При хроническом вазомоторном рините минимальный дисбиоз микрофлоры слизистой оболочки носовой полости сопровождается только снижением факторов антиоксидантной защиты плазмы (↓SOD, ↓CAT, ↓GSH).
При всех остальных фенотипах хронических ринитов значимое нарушение в микрофлоре слизистой оболочке носовой полости сопровождается усилением процессов перекисного окисления липидов. При хроническом атрофическом рините выявляются представители S. aureus, S. epidermidis, S. haemolyticus, S. saprophyticus, S. viridans, S. pyogenes, N. flava, N. mucosa, A. pittii, A. baumannii, A. lwoffii, K. pneumonia, K. oxytoca, но преобладают микроорганизмы рода Klebsiella, ответственные за дегенеративно-дистрофические изменения в эпителиоцитах с развитием атрофии слизистой оболочки полости носа. При исследовании продуктов липопероксидации выявлено увеличение медианы концентрации диеновых конъюгатов и малонового диальдегида, а в антиоксидантном звене — снижение супероксиддисмутазы, каталазы, церулоплазмина и восстановленного глутатиона. Особенностью хронического атрофического ринита было преобладание в спектре микроорганизмов рода Klebsiella spp. с одной стороны и снижением содержания церулоплазмина в АОЗ с другой стороны. Вероятно, данный микроорганизм нарушает способность белка связывать медь и участвовать в обмене железа.
При хроническом инфекционном рините выявляются представители S. aureus, S. haemolyticus, S. saprophyticus, S. pyogenes, N. meningitides, A. pittii, A. baumannii, A. lwoffii, E. coli, E. sakazakii, С. ulcerans, P aeruginosa, P. mirabilis, Candida. Выявлено отсутствие и/или снижение количества представителей нормофлоры, чаще выявляются патогенные и условно-патогенные бактерии, имеется самый выраженный дисбиоз микрофлоры слизистой оболочки полости носа по сравнению со всеми другими хроническими ринитами, который обуславливает длительность и тяжесть клинического течения. Особенностью хронического инфекционного ринита является наличие грибковой флоры, возможно, это обусловлено частыми антибактериальными курсами терапии и отсутствием реабилитации с целью восстановления нормофлоры. В системе ПОЛ–АОЗ плазмы крови пациентов с ХИР выявлено усиление липопероксидации (↑DC, ↑MDA), и значительное снижение факторов антиоксидантной защиты (↓SOD, ↓CAT, ↓GST, ↓GPO, ↓GSH). Выраженный дисбиоз микрофлоры слизистой оболочки носовой полости при данном рините характеризуется активными представителями 10 родов с наличием грибковой флоры, что, безусловно, сопровождается выраженной интоксикацией. Именно ей мы объясняем выраженное нарушение в глутатионовом звене антиоксидантной защиты.
Изменения микробиома слизистой оболочки полости носа индуцируют снижение активности факторов антиоксидантной защиты при всех изучаемых фенотипических формах хронического ринита. В случаях хронического аллергического, вазомоторного и инфекционного ринита наблюдается значительный рост уровня как первичных, так и вторичных продуктов липопероксидации. Исследования показывают, что наибольшее повышение активности перекисного окисления липидов зафиксировано при хроническом инфекционном рините, так же как и наибольший дисбиоз слизистой оболочки полости носа выявлен при ХИР.
В ходе работы было определено, что у пациентов с хроническими ринитами во всех группах было снижение показателей антиоксидантной активности с развитием антиоксидантной недостаточности, что свидетельствует о ранней вовлеченности антиоксидантных ферментов и белков в патологический процесс из-за гипоксии [14] и возможности использования их в качестве дополнительных критериев диагностики.
Активация процессов ПОЛ при всех ХР, кроме вазомоторного, способствует поддержанию хронического воспаления в дыхательных путях [17, 20] и развитию интоксикационного синдрома [22].
Об авторах
О. В. Смирнова
ФГБНУ Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук», обособленное подразделение «НИИ медицинских проблем Севера»; Сибирский федеральный университет
Email: ovsmirnova71@mail.ru
д.м.н., профессор, зав. лабораторией клинической патофизиологии ФГБНУ ФИЦ Красноярский научный центр Сибирского отделения РАН, обособленное подразделение НИИ медицинских проблем Севера; зав. кафедрой медицинской биологии Института фундаментальной биологии и биотехнологии Сибирского федерального университета
Россия, Красноярск; КрасноярскН. С. Гончарова
ФГБНУ Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук», обособленное подразделение «НИИ медицинских проблем Севера»
Автор, ответственный за переписку.
Email: ovsmirnova71@mail.ru
младший научный сотрудник лаборатории клинической патофизиологии
Россия, КрасноярскСписок литературы
- Батуро А.П., Романенко Э.Е., Леонова А.Ю., Ярцева А.С., Савлевич Е.Л., Мокроносова М.А. Доминирование Staphylococcus aureus в микробиоценозе полости носа у детей и взрослых с инфекционным и аллергическим ринитом // Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. 2015. № 1. С. 72–74. [Baturo A.P., Romanenko E.E., Leonova A.Y., Yartseva A.S., Savlevich E.L., Mokronosova M.A. The dominance of staphylococcus aureus in the microbiocenosis of the nasal cavity in children and adults with infectious and allergic rhinitis. Zhurnal mikrobiologii, èpidemiologii i immunobiologii = Journal of Microbiology, Epidemiology and Immunobiology, 2015, no. 1, рр. 72–74. (In Russ.)]
- Блоцкий А.А., Карпищенко С.А., Блоцкий Р.А. Сравнительный анализ эффективности хирургического лечения хронического ринита в амбулаторных условиях // Дальневосточный медицинский журнал. 2012. № 4. С. 82–85. [Blotsky A.A., Karpishchenko S.A., Blotsky R.A. Comparative analysis of the effectiveness of surgical treatment of chronic rhinitis on an outpatient basis. Dal’nevostochnyi meditsinskii zhurnal = Far Eastern Medical Journal, 2012, no. 4, pp. 82–85. (In Russ.)]
- Бодня О.С. Дифференциальный диагноз аллергического и неаллергического ринита: фенотипы и эндотипы // Практическая аллергология. 2021. № 2. С. 86–94. [Bodnya O.S. Differential diagnosis of allergic and non-allergic rhinitis: phenotypes and endotypes. Prakticheskaya allergologiya = Practical Allergology, 2021, no. 2, pp. 86–94. (In Russ.)] doi: 10.46393/ 2712-9667_2021_2_86_94
- Даренская М.А., Колесникова Л.И., Колесников С.И. COVID-19: окислительный стресс и актуальность антиокси- дантной терапии // Вестник Российской академии медицинских наук. 2020. Т. 75, № 4. С. 318–325. [Darenskaya M.A., Kolesnikova L.I., Kolesnikov S.I. COVID-19: oxidative stress and the relevance of antioxidant therapy. Vestnik Rossiiskoi akademii meditsinskikh nauk = Herald of the Russian Academy of Sciences, 2020, vol. 75, no. 4, pp. 318–325. (In Russ.)] doi: 10.15690/ vramn1360
- Кармен Н.Б., Стародумова Т.И. Влияние хронической гипоксии на активность процессов перекисного окисления липидов в мембранах лимфоцитов // Наука и мир. 2017. № 1–2 (41). С. 74–76. [Carmen N.B., Starodumova T.I. Effect of chronic hypoxia on the activity of lipid peroxidation processes in lymphocyte membranes. Nauka i mir = Science and World, 2017, no. 1–2 (41), pp. 74–76. (In Russ.)]
- Карпова Е.П., Бараташвили А.Д. Фенотипическая классификация ринитов и основные принципы терапии // Русский медицинский журнал. Медицинское обозрение. 2019. Т. 8, № 3. С. 33–36. [Karpova E.P., Baratashvili A.D. Phenotypic classification of rhinitis and basic principles of therapy. Russkii meditsinskii zhurnal. Meditsinskoe obozrenie = Russian Medical Journal. Medical Review, 2019, vol. 8, no. 3, pp. 33–36. (In Russ.)]
- Кичерова О.А., Рейхерт Л.И., Кичерова К.П. Вред и польза окислительного стресса // Медицинская наука и образование Урала. 2019. Т. 20, № 4 (100). С. 193–196. [Kicherova O.A., Reichert L.I., Kicherova K.P. Harm and benefit of oxidative stress. Meditsinskaya nauka i obrazovanie Urala = Medical Science and Education of the Urals, 2019, vol. 20, no. 4 (100), pp. 193–196. (In Russ.)]
- Лопатин А.С., Варвянская А.В. Вазомоторный ринит: патогенез, клиника, диагностика и возможности консервативного лечения // Практическая пульмонология. 2007. № 2. С. 33–38. [Lopatin A.S., Varvyanskaya A.V. Vasomotor rhinitis: pathogenesis, clinic, diagnosis and possibilities of conservative treatment. Prakticheskaya pulmonologiya = Practical Pulmonology, 2007, no. 2, pp. 33–38. (In Russ.)]
- Мельник А.М., Воронов А.В., Дворянчиков В.В., Исаченко В.С., Ачба Р.Р. Состояние микрофлоры полости носа при полипозном риносинусите // Российская оториноларингология. 2017. Т. 1, № 86. С. 73–82. [Melnik A.M., Voronov A.V., Dvoryanchikov V.V., Isachenko V.S., Achba R.R. The state of the microflora of the nasal cavity with polypous rhinosinusitis. Rossiiskaya otorinolaringologiya = Russian Otorhinolaryngology, 2017, vol. 1, no. 86, pp. 73–82. (In Russ.)]
- Методики клинических лабораторных исследований: справочное пособие. Том 3. Клиническая микробиология: бактериологические исследования; микологические исследования; паразитологические исследования; инфекционная иммунодиагностика; молекулярная диагностика инфекционных заболеваний / Под ред. В.В. Меньшикова. М.: Лабора, 2009. 880 с. [Methods of clinical laboratory tests: a reference manual. Vol. 3. Clinical microbiology: bacteriological studies; mycological studies; parasitological studies; infectious immunodiagnostics; molecular diagnosis of infectious diseases. Ed. by V.V. Menshikov. Moscow: Labora, 2009. 880 p. (In Russ.)]
- Никифорова Г.Н., Артамонова П.С., Шевчик Е.А. Нарушения функции слизистой оболочки в патогенезе хронических заболеваний полости носа // Медицинский совет. 2021. № 18. С. 94–99. [Nikiforova G.N., Artamonova P.S., Shevchik E.A. Disorders of the mucous membrane function in the pathogenesis of chronic diseases of the nasal cavity. Meditsinskiy sovet = Medical Council, 2021, no. 18, pp. 94–99. (In Russ.)]
- Пухаева М.О., Галуева З.Р., Михайлиди Е.Ф. Микробный биоценоз при аллергическом рините у детей // Альманах мировой науки. 2017. Т. 5, № 20. С. 21–22. [Pukhaeva M.O., Galueva Z.R., Mikhailidi E.F. Microbial biocenosis in allergic rhinitis in children. Al’manakh mirovoi nauki = Almanac of World Science, 2017, vol. 5, no. 20, pp. 21–22. (In Russ.)]
- Смирнова О.В., Гончарова Н.С. Сравнительная характеристика микрофлоры слизистой оболочки полости носа при различных формах хронического ринита // Инфекция и иммунитет. 2023. Т. 13, № 3. C. 506–516. [Smirnova O.V., Goncharova N.S. Comparative characteristics of nasal mucosa microflora in various forms of chronic rhinitis. Infektsiya i immunitet = Russian Journal of Infection and Immunity, 2023, vol. 13, no. 3, pp. 506–516. (In Russ.)] doi: 10.15789/2220-7619-CCO-8056
- Asher B.F., Guilford F.T. Oxidative stress and low glutathione in common ear, nose, and throat conditions: a systematic review. Altern. Ther. Health. Med., 2016, vol. 22, no. 5, pp. 44–50.
- Bachert C., Gevaert P., van Cauwenberge P. Staphylococcus aureus enterotoxins: a key in airway disease? Allergy, 2002, vol. 57, no. 6, pp. 480–487. doi: 10.1034/j.1398-9995.2002.02156.x
- Danevska I.A., Jakjovska T., Zendelovska D., Atanasovska E., Dzekova-Vidimliski P., Petrushevska M., Boshkovska K., Popova G., Tasevska E.G., Balkanov T. Comparison of oxidative stress levels in healthy children and children with allergic rhinitis. Pril. (Makedon Akad Nauk Umet Odd Med Nauki), 2023, vol. 44, no. 1, pp. 17–26. doi: 10.2478/prilozi-2023-0003
- Jaganjac M., Milkovic L., Zarkovic N., Zarkovic K. Oxidative stress and regeneration. Free Radic. Biol. Med., 2022, vol. 181, pp. 154–165. doi: 10.1016/j.freeradbiomed.2022.02.004
- Lewenza S., Charron-Mazenod L., Cho J.J., Mechor B. Identification of bacterial contaminants in sinus irrigation bottles from chronic rhinosinusitis patients. J. Otolaryngol. Head Neck Surg., 2010, vol. 39, no. 4, pp. 458–463.
- Lina G., Boutite F., Tristan A., Bes M., Etienne J., Vandenesch F. Bacterial competition for human nasal cavity colonization: role of Staphylococcal agr alleles. Appl. Environ. Microbiol., 2003, vol. 69, no. 1, pp. 18–23. doi: 10.1128/AEM.69.1.18-23.2003
- Moon H., Sim C., Lee J., Oh I., An T., Lee J. A prospective study on the association between oxidative stress and duration of symptoms in allergic rhinitis. J. Pers. Med., 2021, vol. 11, no. 12: 1290. doi: 10.3390/jpm11121290
- Qin Z., Xie L., Li W., Wang C., Li Y. New insights into mechanisms traditional chinese medicine for allergic rhinitis by regulating inflammatory and oxidative stress pathways. J. Asthma. Allergy, 2024, vol. 17, pp. 97–112. doi: 10.2147/JAA.S444923
- Valgimigli L. Lipid peroxidation and antioxidant protection. Biomolecules, 2023, vol. 13, no. 9: 1291. doi: 10.3390/biom13091291
Дополнительные файлы