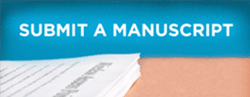Blood anti-surface proteins Echovirus 30 (Enterovirus, Picornaviridae) antibodies in residents of the Nizhny Novgorod region
- Authors: Melentev D.A.1,2, Novikov D.V.1, Lapin V.A.1,2, Mokhonova E.V.1, Tsiganova М.I.1, Manakova E.A.3, Novikov V.V.1,2
-
Affiliations:
- Academician I.N. Blokhina Nizhny Novgorod Scientific Research Institute of Epidemiology and Microbiology of the Federal Service for Surveillance on Consumer Rights Protection and Human Wellbeing
- N.I. Lobachevskii National Research Nizhny Novgorod State University
- LLC “Centralized laboratory “AVK-Med”
- Issue: Vol 14, No 6 (2024)
- Pages: 1179-1186
- Section: ORIGINAL ARTICLES
- Submitted: 18.09.2023
- Accepted: 18.10.2024
- Published: 25.12.2024
- URL: https://iimmun.ru/iimm/article/view/16103
- DOI: https://doi.org/10.15789/2220-7619-BAC-16103
- ID: 16103
Cite item
Full Text
Abstract
Echovirus 30 (Е30) is an enterovirus that causes severe forms of serous meningitis. Over many years, E30 virus has caused serous meningitis outbreaks all over the world including Russia, but the status of anti-E30 population immunity remains unexplored. In 2022, the average percentage of all pediatric admission enterovirus cases in Russia was 97%; the most severe E30 infection cases were registered in children under 17 years of age. The virus capsid surface contains proteins VP1, VP2 and VP3 with homologous epitopes common to other enterovirus proteins, which allows them to be used as an antigen for antibody detection. The work was aimed at assessing frequency of different antibody classes specific to full-length recombinant E30 VP1, VP2 and VP3 proteins. 331 blood serum samples collected from 2 months-to 61 year-old residents of the Nizhny Novgorod region were used in the study. E30 VP1, VP2 and VP3 proteins were expressed in Escherichia coli, purified chromatographically and used antigenically for detection of IgA, IgG and IgM antibodies by using enzyme-linked immunosorbent immunoassay. Most study subjects had antibodies specific to only one or two of the E30 surface proteins. IgA, IgG and IgM antibodies to three recombinant proteins were detected simultaneously in 0.3%, 4.2% and 2.7% of cases. Totally, anti-E30 protein IgG antibodies were detected in 29.9% of cases. The maximum detection rate of antibodies (50.0%) was recorded in pediatric groups that decreased with age. IgG antibodies were found in 9.3% of the tested individuals. The detection rate (16.6%) peaked in the age group of children from 7 to 11 years. The IgM antibody-obtained data evidence that during the study period, almost one in every ten-study participant was infected with enteroviruses. The results of analyzing long-term immunity specific to enteroviral proteins showed the highest frequency of detected IgG antibodies in children that tended to decline with age as well as about continued E30 virus circulation in the Nizhny Novgorod region.
Keywords
Full Text
Введение
Энтеровирусы (семейство Picornaviridae, род Enterovirus) — это безоболочечные РНК-содержащие вирусы, представленные 106 патогенными для человека типами, объединенными в 4 вида — Enterovirus A (ЭВА), Enterovirus B (ЭВВ), Enterovirus C (ЭВС), Enterovirus D (ЭВD) [10, 18]. Наибольшей распространенностью обладают энтеровирусы видов ЭВА и ЭВВ [8].
Энтеровирусная инфекция (ЭВИ) характеризуется полиморфизмом клинических проявлений и может протекать как в форме бессимптомного носительства, так и острого лихорадочного состояния, с тяжелыми осложнениями, включая полиомиелит, полиомиелитоподобное заболевание, менингит, менингоэнцефалит, миокардит, гепатит и др. [3, 7, 13, 17]. Кроме этого, в настоящее время обсуждается роль ЭВИ как фактора, провоцирующего развитие сахарного диабета 1 типа у детей [15].
Молекулярный мониторинг циркуляции неполиомиелитных энтеровирусов (НПЭВ) на территории Российской Федерации позволил идентифицировать более 52 типов [4]. Частота обнаружения различных энтеровирусов зависит от сезона и региона. Из всех заболевших ЭВИ, поступивших в инфекционные стационары, доля детей, в среднем по России, составила 97%, наиболее тяжелые формы инфекции регистрировались у детей до 17 лет [6]. Энтеровирусом, вызывающим тяжелые формы серозного менингита, является Echovirus 30 (Е30) — представитель вида Enterovirus B. Вирус Е30 на протяжении многих лет является причиной вспышек серозного менингита во всем мире, в том числе и в России [5, 14].
Структурные и неструктурные белки энтеровирусов различных типов содержат консервативные аминокислотные последовательности, формирующие общие В-клеточные эпитопы [9]. Консервативные области используются в качестве общего эпитопа для определения антител к широкому спектру энтеровирусов [1, 12]. При ЭВИ IgM-антитела против энтеровирусов образуются в первые дни инфекции и сохраняются в течение 2–3 месяцев. Это позволяет как диагностировать ЭВИ, так и оценивать их распространенность по частоте обнаружения IgM-антител в исследуемый период. IgG-антитела против НПЭВ сохраняются в течение трех и более лет и отражают состояние длительного иммунитета [9]. Обнаруживаются также IgA-антитела к энтеровирусам, наличие которых указывает на недавнее или продолжительное инфицирование слизистой оболочки кишечника [16].
Следует отметить, что подавляющее большинство исследований по мониторингу НПЭВ в РФ проводят среди госпитализированных в инфекционные больницы, также исследуются сточные воды. Используется культура клеток или ОТ-ПЦР [2, 4]. Однако в настоящее время состояние популяционного иммунитета у них остается малоизученным.
Целью настоящей работы было исследование частоты обнаружения антител разных классов к Е30 с использованием полноразмерных рекомбинантных белков VP1, VP2 и VP3, формирующих капсид вируса.
Материалы и методы
В работе использовали образцы сыворотки крови 331 человека в возрасте от 2 месяцев до 61 года, полученные в первой половине 2022 г. из диагностического центра «Гемохелп» («Централизованная лаборатория «АВК-Мед») от проживающих на территории Нижегородской области лиц, обратившихся для проведения диагностических исследований и давших письменное согласие на использование их биоматериала в исследовании. Тестируемые образцы сыворотки крови были разделены на группы согласно рекомендациям ВОЗ в соответствии с возрастом сдавших кровь лиц. В первую группу вошли образцы сыворотки крови детей в возрасте от 2 месяцев до 18 лет (n = 128), во вторую группу вошли образцы сыворотки крови от лиц возрастом от 19 до 44 лет (n = 102) и в третью группу — образцы, полученные от лиц возрастом от 45 до 60 лет (n = 101). Образцы, полученные от детей, дополнительно были разделены на три подгруппы в соответствии с возрастом: дошкольники от 0,2 до 6 лет (n = 34), дети от 7 до 11 лет (n = 19, начальная школа), дети от 12 до 18 лет (n = 75, старшеклассники).
Для получения рекомбинантных белков использовали нуклеотидные последовательности, представленные в работе [11] и в GenBank № MF678335.1. После оптимизации кодонов ДНК была синтезирована в ООО «Люмипроб РУС» (Россия). ДНК размером 888 п.о., 798 п.о. и 744 п.о. соответствующей VP1, VP2 и VP3 области энтеровирусного генома, клонировали в составе вектора pET22b (Novagen, США), рекомбинантные белки экспрессировали в клетках E. coli штамм Rosetta 2 (DE3). Очистку белков проводили в денатурирующих условиях в присутствии 6М мочевины с использованием сефарозы Ni-NTA Superflow (GE Healthcare). Рекомбинантный VP1 ренатурировали диализом против градиента концентраций мочевины, для ренатурации VP2 и VP3 использовали диализ против градиента концентраций сахарозы. Полученные белки анализировали с помощью электрофореза в 10% полиакриламидном геле с окрашиванием Coomassie briliant blue R250.
Очищенные рекомбинантные белки разводили физиологическим раствором (0,9% NaCl) до 0,5 мкг/мл и сорбировали в лунки 96-луночных планшетов в течение 24 ч при 4°С. Планшеты отмывали 5 раз раствором ФСБ-Т (0,01 M натрий-фосфатный буферный раствор, 0,9% NaCl и 0,1% Твин-20, рН7,4), в каждую лунку вносили по 85 мкл ФСБ-Т, 5 мкл осветленного лизата клеток E. сoli Rosetta 2 (DE3) и 10 мкл сыворотки крови. Инкубировали 60 мин в шейкере при 37°С. Планшеты промывали 5 раз ФСБ-Т и в лунки вносили раствор вторичных антител, меченных пероксидазой хрена. Для выявления антител класса IgG использовали моноклональные антитела клона 3D3cc (Hytest, Россия), для выявления антител класса IgM — моноклональные антитела клона 2B9cc (Hytest, Россия), для выявления антител класса IgM использовали поликлональные антитела GAHIaa (ИМТЕК, Россия). Планшеты с внесенными в лунки мечеными пероксидазой антителами инкубировали 60 мин при температуре 37°С и отмывали пять раз ФСБ-Т. Для визуализации реакции в лунки планшетов вносили по 100 мкл 0,04% тетраметилбензидина и 0,02% перекиси водорода в натрий-цитратном буферном растворе pH 5,0. Реакцию останавливали 1N серной кислотой и измеряли величину оптической плотности на спектрофотометре Infinite M200 Pro (Tecan, Austria) в двухволновом режиме: при основной длине волны 450 нм и длине волны сравнения 680 нм.
Анализ полученных данных проводили с использованием компьютерных программ Magellan 7.2 (Tecan, Austria) и Microsoft Excel (Microsoft, США). ОПкрит (cut off) рассчитывали, используя общепринятую методику по формуле ОПК– × k (константа), k = 3. Образцы со значениями оптической плотности (ОП) выше ОПК– × 3 принимали за содержащие антитела, а с меньшим значением ОП — за отрицательные. В качестве отрицательного контроля использовали сыворотку крови крупного рогатого скота.
Статистическую обработку данных проводили с использованием критерия хи-квадрат Пирсона. Наличие статистически значимых различий принимали при p < 0,05. Поиск общих для энтеровирусов аминокислотных последовательностей в базе данных GenBank (NCBI), проводили с помощью компьютерной программы Protein Blast, доступной в сети Интернет (https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi).
Результаты
С использованием бактериальной системы экспрессии были получены очищенные рекомбинантные белки VP1, VP2 и VP3 Е30. Электрофоретический анализ белков продемонстрировал, что их молекулярная масса соответствовала расчетной: VP1 — 33,5 kDa, VP2 — 29,6 kDa, VP3 — 27,5 kDa (рис. 1). Полученные белки были использованы в качестве антигенов для определения в сыворотке крови тестированных лиц антител разных классов, взаимодействующих с этими белками.
Рисунок 1. Электрофоретическая подвижность рекомбинантных белков VP1, VP2 и VP3 E30 в 10% ПААГ
Антитела против VP1, VP2 и VP3 класса IgM обнаруживались в образцах сыворотки крови тестированных лиц в 9,3% случаев. Частота встречаемости антител против каждого из трех рекомбинантных белков различалась. Антитела класса IgM против только VP1 не обнаруживались ни в одном из 331 тестированных образцов. IgM-антитела против VP2 и VP3 выявлены в 3,3% и 1,2% случаев. Одновременное присутствие IgM-антител против VP1 и VP2 зарегистрировано в 1,8% случаев, против VP1 и VP3 — всего в 0,3% случаев. IgM-антитела к VP2 и VP3 в одном и том же образце сыворотки крови не выявлены ни в одном случае, но 2,7% образцов содержали IgM-антитела против всех трех тестированных белков, что составило, в свою очередь, 29,0% от всех IgM-положительных проб (рис. 2).
Рисунок 2. Частота обнаружения антител разных классов к рекомбинантным белкам VP1, VP2 и VP3
Антитела класса IgG встречались в 29,9% случаев. При этом в 20,3% образцах присутствовали антитела к какому-либо одному из тестированных белков, в 5,4% образцов обнаруживались антитела к двум рекомбинантным белкам и в 4,2% случаев встречались IgG-антитела против всех трех белков. В общем массиве IgG-положительных образцов крови такие образцы составили 14,0%.
Антитела класса IgA суммарно выявлялись в 16,5% тестированных образцов. Чаще всего обнаруживались антитела к отдельным рекомбинантным белкам (13,2%). Также обнаруживались образцы, содержащие IgA-антитела одновременно к двум рекомбинантным белкам (3,0%). Образцы, содержащие IgA-антитела сразу к трем белкам, составили лишь 0,3% от общего числа тестированных образцов сыворотки крови, что составило, в свою очередь, всего 1,8% от всех IgА-положительных проб.
Суммарно антитела против рекомбинантных белков Е30 обнаружены в 43,2% случаев (143 из 331 образца сыворотки крови). Из них антитела против какого-либо одного рекомбинантного белка выявлены в 24,2% случаев (80 из 331 образца), антитела против двух из трех белков Е30 обнаруживались в 11,5% случаев (38 из 331 образца), а антитела разных классов против всех трех рекомбинантных белков были выявлены в 7,5% случаев (25 из 331 образца)
Частота обнаружения антител классов IgM, IgG и IgA против VP1, VP2 и VP3 не различалась у мужчин и женщин (данные не представлены). Однако для антител классов IgM и IgG выявлены возрастные особенности их встречаемости (табл.). Антитела класса IgM, взаимодействующие с рекомбинантными белками, чаще всего обнаруживались в образцах сыворотки крови лиц возрастом 19–40 лет. Высокая частота встречаемости IgM-антител у лиц данного возраста была обусловлена в основном повышенной до 13,7% встречаемостью IgM-антител против рекомбинантного VP2. Встречаемость антител класса IgA статистически значимо не менялась в разных возрастных группах. При этом частота обнаружения антител класса IgG демонстрировала выраженную возрастную зависимость. Чаще всего IgG-антитела выявлялись в образцах сыворотки крови детей. Каждый второй образец сыворотки крови лиц до 18 лет содержал IgG-антитела к рекомбинантным белкам. В более старших возрастных группах этот показатель кратно понижался. Динамика изменения частоты встречаемости IgG-антител носила сходный характер для всех трех рекомбинантных белков.
Таблица. Доля лиц разного возраста, серопозитивных по отношению к рекомбинантным белкам E30 (%)
Table. Proportion of persons of different ages seropositive to recombinant E30 proteins (%)
Антиген Antigen | Антитела Antibody | Возраст (лет) | Age (years) | ||
0–18 (n = 128) | 19–40 (n = 102) | 41–61 (n = 101) | ||
VP1 | IgM | 7,0 | 4,9 | 2,0 |
IgA | 7,8 | 4,9 | 4,0 | |
IgG | 29,6 | 3,9* | 2,0* | |
VP2 | IgM | 7,0 | 13,7 | 3,0** |
IgA | 5,4 | 5,9 | 6,9 | |
IgG | 29,6 | 17,6* | 5,9*,** | |
VP3 | IgM | 4,6 | 5,9 | 2,0 |
IgA | 8,5 | 5,9 | 2,0 | |
IgG | 18,8 | 10,8 | 5,9*,** | |
Всего Total | IgM | 7,8 | 16,6* | 4,0 |
IgA | 18,7 | 13,7 | 16,8 | |
IgG | 50,0 | 25,4* | 8,9*,** | |
Примечание. Статистически значимые различия с лицами возрастом: * — от 0,2 до 18 лет; ** — от 19 до 40 лет.
Note. Statistically significant differences with persons of age: * — from 0.2 to 18 years; * * — from 19 to 40 years.
Так как энтеровирусные инфекции представляют наибольшую опасность для детей, нами был проведен анализ частоты обнаружения антител у детей разного возраста. Как видно из рис. 3, с повышением возраста частота обнаружения антител класса IgM против белков Е30 повышалась от нуля до 12,0%. Частота выявления IgG-антител также нарастала с повышением возраста и достигала 57,3% (рис. 3). Наибольшая частота выявления антител класса IgА регистрировалась в образцах сыворотки крови от детей 7–11 лет (36,8%). Она статистически значимо превышала в 4,2 раза частоту обнаружения антител в крови детей до 6 лет (p = 0,013). Обнаруживалось также двукратное, хотя и статистически не значимое, превышение частоты обнаружения антител в крови детей от 12 до 18 лет.
Рисунок 3. Частота обнаружения антител к рекомбинантным белкам Е30 в крови детей разного возраста
Обсуждение
В настоящей работе для определения частоты обнаружения антител против белков Е30 были использованы полноразмерные рекомбинантные белки VP1, VP2 и VP3 Е30, экспрессированные в E. coli. Как следует из полученных данных, в сыворотке крови тестированных лиц с разной частотой определялись антитела всех трех классов. Антитела класса IgG против рекомбинантных белков Е30 обнаруживались в 29,9% образцов крови. Максимальная частота выявления антител регистрировалась в крови детей от 12 до 18 лет, а затем понижалась с возрастом. Сходную возрастную динамику продемонстрировали антитела класса IgM. Частота их обнаружения нарастала и достигала пика в возрастной группе 19–40 лет с последующим падением. При этом частота обнаружения антител класса IgM в среднем была почти в 2 раза ниже, чем у IgG-антител. Частота выявления IgA-антител оказалась самой высокой в группе детей от 7 до 11 лет, достигая 36,8%, что вдвое превышало среднюю частоту встречаемости IgA-антител. В подавляющем большинстве случаев антитела класса А детектировались только к одному или комбинации из двух поверхностных белков Е30. Вероятно, обнаружение IgA в крови всех возрастных групп косвенно отражают циркуляцию энтеровирусов, поражающих слизистую оболочку кишечника. Суммарно антитела против рекомбинантных белков Е30 обнаружены в 43,2% случаев В большинстве случаев антитела были направлены только к одному или двум из поверхностных белков Е30. Суммарные антитела к трем белкам Е30 обнаружены в 7,5% случаев.
В соответствии с эпидемиологическими данными, в 2022 г. сезонный подъем заболеваемости ЭВИ, приводящей к госпитализации больных, в Нижегородской области начался с июня. Пик заболеваемости пришелся на август, причем в возрастной структуре госпитализированных, как в случаях спорадической заболеваемости, так и в групповых очагах, преобладало детское население [6]. Поскольку антитела класса IgM продуцируются при первичном иммунном ответе и с высокой долей вероятности обнаруживаются в период заболевания, на основании наших данных можно предположить, что скрытая активная циркуляция ЭВИ среди взрослого населения в первой половине год явилась триггером подъема заболеваемости среди детей в летний период.
Представленные данные о частоте выявления антител к белкам Е30 в целом соответствуют данным других авторов. Так, проведенное в Китае в 2016 г. серологическое исследование присутствия нейтрализующих антител к эховирусу 30 в крови здоровых лиц, показало, что при использовании реакции микронейтрализации средняя серопревалентность составляла 25,2% и повышалась от 6,7% у детей возрастом менее 1 года до максимума в возрастных группах 7–19 и 20–39 лет (36,0% и 47,8% соответственно) [19]. Описанное распределение сходно с полученными нами результатами частоты обнаружения антител класса IgG против Е30. Заметим, что в исследовании китайских коллег, наряду с антителами против Е30, тестировались антитела против нескольких энтеровирусов и было продемонстрировано наличие антител, нейтрализующих несколько различных энтеровирусов [19].
Биоинформационный анализ аминокислотных последовательностей полученных нами рекомбинантных белков VP1, VP2 и VP3 показал, что в каждом из них присутствовало по крайней мере по одному из описанных ранее общих для энтеровирусов В-клеточных эпитопов. Эпитоп Е2, присутствующий в рекомбинантном VP1, является общим для многих энтеровирусов видов А, В или С, включая poliovirus 1 и poliovirus 3 GenBank: OQ286220. Эпитоп Е9, присутствующий у VP2, обнаружен в основном у энтеровирусов вида В, а эпитоп Е14, имеющийся у VP3, характерен для энтеровирусов видов А, В и С (включая poliovirus 2 GenBank: ADR82079.1) [9, 11]. То есть наличие антител против полученных нами рекомбинантных белков не является во всех случаях свидетельством развития иммунных реакций против Е30, а может быть следствием инфицированности организма другими энтеровирусами. Можно предположить, что наличие антител против всех трех белков Е30 с большей вероятностью является свидетельством инфицирования именно этим вирусом. При наличии антител к одному или двум белкам вируса существует определенная вероятность присутствия в крови антител, выработанных в ответ на другие энтеровирусы. При этом нельзя исключать и возможность присутствия в крови антител к уникальным для Е30 эпитопам. Данный вопрос нуждается в дополнительном изучении. Кроме этого, реальная доля носителей антител к разным энтеровирусам в целом вероятно выше выявленной, поскольку используемый нами метод позволяет детектировать антитела только к эпитопам, присутствующим у капсидных белков Е30. Заметим, что примененные нами в работе рекомбинантные белки VP1 и VP3 содержат эпитопы, присутствующие у энтеровирусов вида С (PV1, PV2 и PV3), которые используются составе вакцин против полиомиелита. Однако установленная нами высокая частота обнаружения IgG-антител к белку VP2, не содержащему общих с вакцинными штаммами эпитопов, свидетельствует, что популяционный иммунитет формировался за счет инфицирования неполиомиелитными энтеровирусами. При этом наличие в крови антител класса IgM к рекомбинантным белкам позволяет высказать предположение, что почти каждый десятый из тестированных мог быть инфицирован энтеровирусами в первой половине 2022 г.
Следует отметить, что сбор материала для сероэпидемиологического исследования происходил во время проведения ограничительных мер, связанных с новой коронавирусной инфекцией, что могло повлиять на полученные результаты. Тем не менее полученные нами данные в целом указывают на продолжающуюся циркуляцию вируса Е30 среди населения одного из центральных регионов Российской Федерации. Однако доля серопозитивных лиц, имеющих широкий спектр антител разных классов к белкам Е30, невысока, что формирует риски возможного подъема заболеваемости.
Заключение
С использованием рекомбинантных белков VP1, VP2 и VP3 вируса Е30, проведен анализ популяционного иммунитета против энтеровирусов на территории Нижегородской области. В собранных в первой половине 2022 г. образцах крови от людей разного возраста проведено определение антител классов IgM, IgG и IgA к рекомбинантным белкам. На основе обнаружения IgM-антител показано, что почти каждый десятый из участников исследования был инфицирован энтеровирусами в первой половине 2022 г. Наибольшая частота обнаружения IgM-антител регистрировалась в возрастной группе 19–40 лет. Результаты изучения состояния длительного иммунитета к НПЭВ показали, наибольшую частоту обнаружения IgG-антител у детей с последующей тенденцией к снижению с возрастом. Обнаружение антител класса A опосредованно указывает на циркуляцию энтеровирусов, поражающих слизистую оболочку кишечника во всех возрастных группах. Наличие в структуре белков Е30 общих с другими энтеровирусами эпитопов, позволило предположить, что популяционный иммунитет формировался за счет инфицирования населения разными неполиомиелитными энтеровирусами, циркулировавшими в исследованный период.
About the authors
Dmitrii A. Melentev
Academician I.N. Blokhina Nizhny Novgorod Scientific Research Institute of Epidemiology and Microbiology of the Federal Service for Surveillance on Consumer Rights Protection and Human Wellbeing; N.I. Lobachevskii National Research Nizhny Novgorod State University
Author for correspondence.
Email: dim-melente@yandex.ru
Junior Researcher, Laboratory of Immunochemistry; PhD Student, Department of Molecular Biology
Россия, Nizhniy Novgorod; Nizhniy NovgorodD. V. Novikov
Academician I.N. Blokhina Nizhny Novgorod Scientific Research Institute of Epidemiology and Microbiology of the Federal Service for Surveillance on Consumer Rights Protection and Human Wellbeing
Email: dim-melente@yandex.ru
PhD (Biology), Associate Professor, Leading Researcher, Laboratory of Immunochemistry
Россия, Nizhniy NovgorodV. A. Lapin
Academician I.N. Blokhina Nizhny Novgorod Scientific Research Institute of Epidemiology and Microbiology of the Federal Service for Surveillance on Consumer Rights Protection and Human Wellbeing; N.I. Lobachevskii National Research Nizhny Novgorod State University
Email: dim-melente@yandex.ru
Junior Researcher, Laboratory of Immunochemistry; PhD Student
Россия, Nizhniy Novgorod; Nizhniy NovgorodE. V. Mokhonova
Academician I.N. Blokhina Nizhny Novgorod Scientific Research Institute of Epidemiology and Microbiology of the Federal Service for Surveillance on Consumer Rights Protection and Human Wellbeing
Email: dim-melente@yandex.ru
Researcher, Laboratory of Immunochemistry
Россия, Nizhniy NovgorodМ. I. Tsiganova
Academician I.N. Blokhina Nizhny Novgorod Scientific Research Institute of Epidemiology and Microbiology of the Federal Service for Surveillance on Consumer Rights Protection and Human Wellbeing
Email: dim-melente@yandex.ru
PhD (Biology), Leading Researcher, Laboratory of Immunochemistry
Россия, Nizhniy NovgorodE. A. Manakova
LLC “Centralized laboratory “AVK-Med”
Email: dim-melente@yandex.ru
PhD (Medicine), Director of Medicine, Doctor of Clinical Laboratory Diagnostic
Россия, Nizhny NovgorodV. V. Novikov
Academician I.N. Blokhina Nizhny Novgorod Scientific Research Institute of Epidemiology and Microbiology of the Federal Service for Surveillance on Consumer Rights Protection and Human Wellbeing; N.I. Lobachevskii National Research Nizhny Novgorod State University
Email: dim-melente@yandex.ru
DSc (Biology), Professor, Head of the Laboratory of Immunochemistry; Professor of the Department of Molecular Biology
Россия, Nizhniy Novgorod; Nizhniy NovgorodReferences
- Дедюля К.Л., Поклонская Н.В., Амвросьева Т.В., Безручко А.А., Богуш З.Ф., Казинец О.Н. Использование рекомбинантного энтеровирусспецифического полипептида в качестве антигена при разработке диагностической тест-системы // Военная медицина. 2010. № 3. С. 87–91. [Dziadziulia K.L., Poklonskaya N.V., Amvrosieva T.V., Bezruchko A.A. Bogush Z.F., Kazinez O.N. Use of a recombinant enterovirus-specific polypeptide as an antigen in the development of a diagnostic test system. Voennaya meditsina = Military Medicine, 2010, no. 3, pp. 87–91. (In Russ.)]
- Демина А.В., Маркович Н.А., Нетесов С.В. Энтеровирусы. Часть 1: история открытия, таксономия, строение генома, эпидемиология // Сибирский научный медицинский журнал. 2008. № 1. C. 92–100. [Demina A.V., Markovich N.A., Netesov S.V. Enteroviruses. Part I: History of discovery, taxonomy, genome structure, epidemiology. Sibirskii nauchnyi meditsinskii zhurnal = Siberian Scientific Medical Journal, 2008, no. 1, pp. 92–100. (In Russ.)]
- Канаева О.И. Энтеровирусная инфекция: многообразие возбудителей и клинических форм // Инфекция и иммунитет. 2014. Т. 4, № 1. С. 27–36. [Kanaeva O.I. Enterovirus infection: variety of etiological factors and clinical manifestations. Infektsiya i immunitet = Russian Journal of Infection and Immunity, 2014, vol. 4, no. 1, pp. 27–36. (In Russ.)] doi: 10.15789/2220-7619-2014-1-27-36
- Лукашев А.Н., Голицына Л.Н., Вакуленко Ю.А., Ахмадишина Л.В., Романенкова Н.И., Сапега Е.Ю., Морозова Н.С., Новикова Н.А., Троценко О.Е., Иванова О.Е. Современные возможности и направления развития молекулярно-эпидемиологического мониторинга в надзоре за энтеровирусными инфекциями. Опыт Российской Федерации // Инфекция и иммунитет. 2018. Т. 8, № 4. С 452–464. [Lukashev A.N., Golitsina L.N., Vakulenko Y.A., Akhmadishina L.V., Romanenkova N.I., Sapega E.Y., Morozova N.S., Morozova N.S., Novikova N.A., Trotsenko O.E., Ivanova O.E. Current possibilities and potential development of molecular enterovirus surveillance. Experience of Russian Federation. Infektsiya i immunitet = Russian Journal of Infection and Immunity, 2018, vol. 8, no. 4, pp. 452–464. (In Russ.)] doi: 10.15789/2220-7619-2018-4-452-464
- Лукашев А.Н., Иванова О.Е., Еремеева Т.П., Лашкевич В.А., Черненко К.Е. Молекулярная эпидемиология вируса ECHO 30 на территории России и стран СНГ // Вопросы вирусологии. 2004. № 5. С. 12–16. [Lukashev A.N., Ivanova О.Е., Eremeeva Т.Р., Lashkevich V.A., Chernenko K.E. Molecular epidemiology of the ECHO 30 virus in Russia And CIS countries. Voprosy virusologii = Problems of Virology, 2004, no. 5, pp. 12–16. (In Russ.)]
- Михайлова Ю.М., Черепанова Е.А. Энтеровирусная (неполио) инфекция в Российской Федерации в 2022 г. // Заболеваемость, этиологическая структура и вопросы профилактики энтеровирусной (неполио) инфекции: информационный бюллетень. 2023. № 10. С. 3–5. [Mihajlova J.M., Cherepanova E.A. Enteroviral (non-polio) infection in the Russian Federation in 2022. Morbidity, etiological structure and issues of prevention of enterovirus (non-polio) infection: factsheet, 2023. no. 10, pp. 3–5. (In Russ.)]
- Новиков Д.В., Мелентьев Д.А. Энтеровирусные (Picornaviridae: Enterovirus) (неполио) вакцины // Вопросы вирусологии. 2022. Т. 67, № 3. С. 185–192. [Novikov D.V., Melentev D.A. Enteroviral (Picornaviridae: Enterovirus) (nonpolio) vaccines. Voprosy virusologii = Problems of Virology, 2022, vol. 67, no. 3, pp. 185–192. (In Russ.)] doi: 10.36233/0507-4088-111
- Новикова Н.А., Голицына Л.Н., Фомина С.Г., Ефимов Е.И. Молекулярный мониторинг неполиомиелитных энтеровирусов на территории России в 2008–2011 гг. // Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунологии. 2013. № 1. C 75–78. [Novikova N.A., Golitsyna L.N., Fomina S.G., Efimov E.I. Molecular monitoring of non-polio enteroviruses in European territory of Russia in 2008–2011. Zhurnal mikrobiologii, epidemiologii i immunobiologii = Journal of Microbiology, Epidemiology and Immunobiology, 2013, no. 1, pp. 75–78. (In Russ.)]
- Aw-Yong K.L., NikNadia N.M.N., Tan C.W., Sam I., Chan Y.F. Immune responses against enterovirus A71 infection: Implications for vaccine success. Rev. Med. Virol., 2019, vol. 29, no. 5: e2073. doi: 10.1002/rmv.2073
- Brouwer L. Moreni G. Wolthers K.C. Pajkrt D. World-wide prevalence and genotype distribution of enteroviruses. Viruses, 2021, vol. 13: 434. doi: 10.3390/v13030434
- Bubeck D., Filman D.J., Cheng N., Steven A.C., Hogle J.M., Belnap D.M. The Structure of the poliovirus 135S cell entry intermediate at 10-angstrom resolution reveals the location of an externalized polypeptide that binds to membranes. J. Virol., 2005, vol. 79, no. 12, pp. 7745–7755. doi: 10.1128/JVI.79.12.7745-7755.2005
- Cello J., Samuelson A., Stalhandske P., Svennerholm B., Jeansson S., Forsgren M. Identification of group-common linear epitopes in structural and nonstructural proteins of enteroviruses by using synthetic peptides. J. Clin. Microbiol, 1993, vol. 31, pp. 911–916. doi: 10.1128/jcm.31.4.911-916.1993
- Liu S.L., Pan H., Liu P., Amer S., Chan T.C., Zhan J., Huo X., Liu Y., Teng Z., Wang L., Zhuang H. Comparative epidemiology and virology of fatal and nonfatal cases of hand, foot and mouth disease in mainland China from 2008 to 2014. Rev. Med. Virol., 2015, vol. 25, pp. 115–128. doi: 10.1002/rmv.1827
- Lukashev A.N., Ivanova O.E., Eremeeva T.P., Gmyl L.V. Analysis of echovirus 30 isolates from Russia and new independent states revealing frequent recombination and reemergence of ancient lineages. J. Clin. Microbiol., 2008, vol. 46, no. 2, pp. 665–670. doi: 10.1128/JCM.02386-06
- Magloire P.N., Enagnon K.A., Didier H. Persistent coxsackievirus B infection and pathogenesis of type 1 diabetes mellitus. Nat. Rev. Endocrinol., 2022, vol. 18, no. 8, pp. 503–516. doi: 10.1038/s41574-022-00688-1
- Nekoua M.P., Mercier A., Vergez I., Morvan C., Mbani C.J., Sane F., Lobert D., Engelmann I., Romond M.B., Alidjinou E.K., Hober D. [Coxsackievirus B infection and pathogenesis of type 1 diabetes]. Virologie (Montrouge), 2022, vol. 26, no. 6, pp. 415–430. (In French). doi: 10.1684/vir.2022.0976
- Pons-Salort M., Parker E.P.K., Grassly N.C. The epidemiology of non-polio enteroviruses: recent advances and outstanding questions. Curr. Opin. Infect. Dis., 2015, vol. 28, pp. 479–487. doi: 10.1097/QCO.0000000000000187
- Simmonds P., Gorbalenya A.E., Harvala H., Hovi T., Knowles N.J., Lindberg A.M., Oberste M.S., Palmenberg A.C., Reuter G., Skern T., Tapparel C., Wolthers K.C., Woo P.C.Y., Zell R. Recommendations for the nomenclature of enteroviruses and rhinoviruses. Arch. Virol., 2020, vol. 165, no. 3, pp. 793–797. doi: 10.1007/s00705-019-04520-6
- Zhu R., Cheng T., Yin Z., Liu D., Xu L., Li Y., Wang W., Liu J., Que Y., Ye X., Tang Q., Zhao Q., Ge S., He S., Xia N. Serological survey of neutralizing antibodies to eight major enteroviruses among healthy population. Emerg. Microbes. Infect., 2018, vol. 7, no. 1: 2. doi: 10.1038/s41426-017-0003-z
Supplementary files