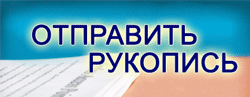Типовое разнообразие папилломавирусов человека высокого канцерогенного риска при клинических формах инфекции шейки матки в Российской Федерации
- Авторы: Афанасьев М.С.1, Душкин А.Д.1,2, Афанасьев С.С.3, Несвижский Ю.В.1, Гришачева Т.Г.4, Бирюкова Е.С.1, Борисова О.Ю.3, Душкина И.А.5, Караулов А.В.1
-
Учреждения:
- ФГАОУ ВО ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет)
- ГБУЗ Городская клиническая больница № 52 Департамента здравоохранения города Москвы
- ФБУН Московский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора
- ФГБОУ ВО Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова Министерства здравоохранения РФ
- ГБУЗ Городская клиническая больница № 67 им. Л.А. Ворохобова Департамента здравоохранения города Москвы
- Выпуск: Том 15, № 2 (2025)
- Страницы: 271-286
- Раздел: ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
- Дата подачи: 11.06.2024
- Дата принятия к публикации: 13.08.2024
- Дата публикации: 08.07.2025
- URL: https://iimmun.ru/iimm/article/view/17690
- DOI: https://doi.org/10.15789/2220-7619-TPO-17690
- ID: 17690
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Цель — установить зависимости клинических форм папилломавирусной инфекции шейки матки от типовых особенностей вирусов папилломы человека высокого канцерогенного риска. В исследование включены 1063 пациентки в возрасте от 16 до 71 года (Me = 33; IQR: 29–38), у которых была выявлена активная папилломавирусная инфекция и ее клинические формы. Пациентки были разделены на группы в зависимости от клинических форм заболевания на фоне активной ВПЧ-инфекции: вирусоносители, цервикальная интраэпителиальная неоплазия легкой степени, цервикальная интраэпителиальная неоплазия умеренной степени, цервикальная интраэпителиальная неоплазия тяжелой степени, карцинома in situ и инвазивный рак шейки матки. Для диагностики использовался метод полимеразной цепной реакции в режиме реального времени с типированием ВПЧ (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 типы). Результаты исследования показали, что вирусы из альфа-филогенетической ветви ответственны за развитие клинических форм папилломавирусной инфекции. При этом было выявлено, что при тяжелых формах инфекции, включая рак шейки матки, преобладают вирусы семейства А9 (ВПЧ16, ВПЧ31, ВПЧ58), тогда как на начальных стадиях заболевания чаще встречаются вирусы из семейств А5 и А6 (ВПЧ51 и ВПЧ66). Особенно важным является наблюдение о переходе от инфицирования ВПЧ семейств A5, A6 и A7, которые имеют низкую степень родства с ВПЧ16, к семейству A9, характеризующемуся высокой степенью родства с ВПЧ16. Данное наблюдение подтверждает высокую значимость моноинфицирования ВПЧ16 при раке шейки матки в контексте теории о репликации ВПЧ16-подобного типа вируса. Вирусная нагрузка демонстрирует волнообразный характер в зависимости от клинической формы и семейства ВПЧ. Это указывает на динамичность инфекционного процесса и возможность изменений вирусной нагрузки в зависимости от стадии заболевания и типа вируса. Исследование подчеркивает важность определения конкретного типа ВПЧ при моно- или полиинфицировании для оценки клинической формы заболевания. Это может оказать значительную помощь клиническим специалистам в определении степени тяжести инфекции и выборе дальнейшей тактики ведения пациенток. Таким образом, наши результаты свидетельствуют о необходимости учитывать тип ВПЧ при диагностике и лечении папилломавирусной инфекции шейки матки. Это позволит улучшить точность прогнозов и эффективность терапевтических мероприятий, направленных на предотвращение прогрессии заболевания и развитие рака шейки матки.
Полный текст
Введение
Около 4,5% всех случаев злокачественных новообразований, исключая другие факторы, связаны с вирусом папилломы человека (ВПЧ) [11]. Среди них — рак шейки матки (РШМ), влагалища, полового члена, вульвы, ротоглотки и гортани [10]. ВПЧ является важным объектом для исследований не только из-за его связи с терминальной стадией инфекции, такой как рак, но и из-за его роли в вирус-ассоциированном воспалении и предраковых изменениях.
Для более глубокого понимания влияния ВПЧ важно учитывать такой немаловажный признак, как таксономия. Базовый подход таксономии ВПЧ включает в себя классификацию вирусов папилломы на основе связи между последовательностями ДНК сегмента 291-bp в высококонсервативной области ORF (open reading frame) гена L1 [6]. Этот подход позволяет ученым классифицировать и различать различные штаммы ВПЧ на основе их генетического состава [12]. Из 448 задокументированных типов ВПЧ [33, 45], 14 классифицированы как канцерогенные (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 и 68), что означает, что они являются этиологической причиной развития рака [22]. Примечательно, что наиболее заметными канцерогенными типами ВПЧ являются ВПЧ16 и ВПЧ18, которые ответственны за большинство случаев РШМ по всему миру. Однако ВПЧ16 и ВПЧ18 относятся к различным семействам А9 и А7 соответственно. Согласно кладограмме (рис. 1), представленной de Villiers (2013), родственными ВПЧ ВКР к ВПЧ16 являются ВПЧ31, ВПЧ33, ВПЧ35, ВПЧ52 и ВПЧ58, а к ВПЧ18 — ВПЧ39, ВПЧ45, ВПЧ59 и ВПЧ68 [12].
Рисунок 1. Схема из кладограммы ВПЧ, основанная на полных нуклеотидных последовательностях гена L1 (модифицировано из de Villiers, 2013 [12])
Figure 1. HPV cladogram scheme based on L1 gene complete nucleotide sequence (modified from de Villiers, 2013 [12])
Папилломавирусная инфекция (ПВИ) редко приводит к клиническим проявлениям/клиническим формам (КФ), а именно к развитию CIN I/LSIL — цервикальной интраэпителиальной неоплазии (CIN) легкой степени, CIN II/HSIL — CIN умеренной степени, CIN III/HSIL — CIN тяжелой степени, карциноме in situ и раку шейки матки. Примерно в 80% случаев происходит элиминация ВПЧ иммунной системой человека в течение 3 лет, и только около 3% случав переходит в предраковые состояния и рак в течение 7 лет [14].
Считается, что для развития ПВИ многослойного эпителия кожи и слизистых оболочек необходимо инфицирование быстро делящихся базальных клеток, включая стволовые или стволоподобные клетки [16]. При успешном инфицировании клеток базального слоя вирусные геномы локализуются в ядре и реплицируются в определенном количестве, которое, как полагают, составляет от 50 до 200 копий на клетку [5, 19, 26, 42]. ВПЧ поддерживает стабильное количество копий в первоначально инфицированном числе базальных клеток.
В базальном слое клеток экспрессия генов остается низкой, что ограничивает вероятность иммунного обнаружения [16, 38]. При достижении эпителиальными клетками высокодифференцированного состояния начинается экспрессия промежуточных и поздних генов ВПЧ, что в свою очередь приводит к увеличению числа копий вирусного генома [15, 26, 35, 41] и образованию вирусных частиц. Процесс репликации происходит без виремии, вирус-индуцируемой программируемой клеточной гибели и вирус-ассоциированного воспаления, что позволяет вирусу оставаться практически незаметным для иммунной системы человека [41].
Продуцирование вирусных частиц начинает происходить в верхних слоях эпителия в синергизме с дифференцировкой эпителиальных клеток. Таким образом, при нормальных обстоятельствах в базальном слое не происходит горизонтального инфицирования соседних клеток. Клетки содержат вирусные геномы, но не вирусные частицы. Вирусные геномы сохраняются в виде свободных от вирионов эписом, которые реплицируются в среднем один раз за клеточный цикл [16], но иногда может происходить интеграция в геном хозяина [28].
Вероятно, что количество вирусных геномов, зависит от анатомической локализации, а также времени взятия образцов. Образцы, полученные с поверхности эпителия во время продуктивной инфекции, могут включать как полностью жизнеспособные кольцевые геномы, так и инкапсулированные в инфекционные вирусные частицы.
С другой стороны, образцы, полученные с поверхности опухолевой ткани, могут включать частичные вирусные геномы, которое могут быть интегрированы в геном клетки-хозяина и уже подверглись мутационным изменениям.
По меньшей мере существует четыре различных механизма, которые приводят к мутациям ВПЧ на разных стадиях его жизненного цикла. В базальном слое клеток количество копий поддерживается с помощью двунаправленной репликации, которая может непропорционально приводить к мутациям и рекомбинации в области между E2 и L2, где встречаются репликационные вилки [18, 36, 38, 49].
Количество вирусных копий увеличивается вместе с клеточной дифференцировкой. ВПЧ переключается на однонаправленную репликацию [18, 27, 38], которая может запускать различные мутационные процессы. Редактирование происходит при помощи дезаминаз APOBEC3 семейства aid/APOBEC (Activation Induced Deaminase/Apolipoprotein B mRNA Editing enzyme, Catalytic polypeptide-like), вовлеченных в противовирусный иммунный ответ [40]. При переходе ДНК в одноцепочечное состояние во время транскрипции или репликации, ферменты APOBEC3 хозяина «нацеливаются» на динуклеотиды TpC, индуцируя мутации C→T (G→A) [47]. Мутационная нагрузка также нарастает и на эпигенетическом уровне. Дезаминирование метилированных динуклеотидов CpG, которое также происходит в одноцепочечном состоянии [20], также может вызывать мутации C→T (G→A) в сайтах генов ВПЧ [8, 24].
ВПЧ использует ферменты (ДНК-полимеразы) хозяина для репликации генома, которые, хотя и редко, могут «допускать ошибки». Прямая оценка частоты мутаций ВПЧ затруднена из-за сложностей в выделении из культуры эпителиальных клеток дисплазии, карцином шейки матки и высокой точности репликации [17, 30, 37]. В этом контексте эволюционные сравнения становятся ключевым методом, позволяющим определить частоту мутаций в геноме ВПЧ на основе частоты замещений. Отмечается, что во всем геноме ВПЧ частота эволюционных замещений примерно в 5 раз выше, чем в геномах их хозяев — млекопитающих [43]. Это указывает на то, что эволюция ВПЧ преимущественно происходит путем случайного генетического дрейфа, а не естественного отбора [23].
Приведенные выше факты обусловливают актуальность нашего исследования, целью которого явилось установить зависимости клинических проявлений ПВИ шейки матки от типовых особенностей ВПЧ ВКР с учетом вирусной нагрузки и лейкоцитарной реакции.
Материалы и методы
В период с ноября 2015 по декабрь 2023 г. на базе кафедры клинической иммунологии и аллергологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) совместно с сотрудниками многопрофильных медицинских центров проведен анализ КФ ПВИ шейки матки в зависимости от типовых и филогенетических особенностей ВПЧ ВКР. Данное исследование не требовало одобрения локального этического комитета. Предварительный расчет выборки для оценки мощности исследования не проводился. Исследование соответствует этическим стандартам, разработанным в соответствии с Хельсинской декларацией Всемирной медицинской ассоциации «Этические принципы проведения научных медицинских исследований с участием человека» с поправками и «Правилами клинической практики в Российской Федерации».
Исследование проводилось в рамках диссертационной работы «Показатели мукозального иммунитета шейки матки в мониторинге клинического течения и эффективности фотодинамической терапии папилломавирусной инфекции», которое было одобрено локальным этическим комитетом ФГАОУ ВО Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) № 15-21 от 01.09.2021.
Критерии включения в исследование:
- ВПЧ-тестирование с обязательным включением 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 типов;
- морфологическое исследование (традиционная или жидкостная цитология/гистологическое исследование) на наличие атипичных клеток или цервикальной интраэпителиальной неоплазии (CIN)/плоскоклеточного интраэпителиального поражения (SIL) [36, 37];
- подписанное информированное согласие пациенток на включение в исследование.
Критерии невключения в исследование:
- недостаточное число типов ВПЧ в панели тестирования;
- атипия плоского эпителия неопределенной степени по результатам цитологического исследования.
Обследовано 1063 пациентки на наличие активной ПВИ и ее КФ в возрасте от 16 лет до 71 года (Me = 33; IQR: 29–38). Пациентки были разделены на группы в зависимости от КФ на фоне активной ПВИ:
- группа I — вирусоносители (ПВИ без КФ) — n = 151; 14,2% (95%ДИ: 12,2–16,4);
- группа II — CIN I/LSIL — n = 181; 17% (95%ДИ: 14,8–19,4);
- группа III — CIN II/HSIL — n = 219; 20,6% (95%ДИ: 18,2–23,2);
- группа IV — CIN III/HSIL — n = 351; 33% (95%ДИ: 30,2–35,9);
- группа V — карцинома in situ — n = 103; 9,7% (95%ДИ: 8–11,6);
- группа VI — инвазивный РШМ — n = 58; 5,5% (95%ДИ: 4,2–7).
Пациентки проходили дифференцированное определение ДНК ВПЧ 14 типов + контроль взятия материала в соскобе эпителиальных клеток с эндо- и экзоцервикса с использованием полимеразной цепной реакции в режиме реального времени («РеалБест ДНК ВПЧ ВКР генотип количественный» по ТУ 9398-320-23548172-2011 от 06.04.2017 № ФСР 2012/13457). Определение ВПЧ в соскобе проводилось в специализированных клинико-диагностических лабораториях, обеспечивающих качество исследований с помощью сертифицированной системы управления качеством, соответствующей международным стандартам: ISO 9001:2015, ISO 15189:2012, и надлежащей лабораторной практике (GLP). Вирусная нагрузка была рассчитана исходя из значений ведущего (наибольшего lg копий ДНК ВПЧ на 105 эпителиальных клеток) типа ВПЧ. Моноинфицированием считали обнаружение одного типа ВПЧ, а полиинфицированием — двух типа ВПЧ и более.
Число лейкоцитов в цервикальном секрете рассчитывали исходя из подсчета в поле зрения при световой микроскопии. Тип лейкоцитарной реакции описывали согласно пособию Караулова и соавт. (2019) [2]. Обследование проводили в первую половину менструального цикла.
Сбор и хранение данных проводили с использование пакета программ Microsoft Office 365 (пакет Excel). Математическую и статистическую обработку данных проводили с использованием статистических пакетов языка программирования Python 3.10 в среде IDE Visual Studio Code 1.76.1 (Universal). Количественные показатели оценивали на соответствие нормальному распределению с помощью теста Шапиро–Уилка. Количественные признаки описывали с помощью медианы (Me); нижнего и верхнего квартилей [IQR]. Сравнение проводили с использованием Н-критерия Краскела–Уоллиса, апостериорные сравнения — с помощью критерия Данна. Сравнение между двумя группами проводили с использованием U-критерия Манна–Уитни. Категориальные данные описывались с указанием абсолютных значений (n) и процентных долей (%). Сравнение процентных долей при анализе многопольных таблиц сопряженности выполнялось с помощью критерия χ2 Пирсона. Для представления анализа частоты встречаемости использовали тепловые карты. Корреляционную связь оценивали с помощью метода Спирмена.
Результаты
Нами проанализировано 1063 результата ВПЧ-тестирования у женщин, проживающих на территории Российской Федерации. У 99 пациенток (9,3%) не определялся ВПЧ на фоне клинических проявлений ПВИ. Результаты тестирований данных пациенток не учитывались при дальнейшем описании результатов. Моноинфицирование ВПЧ регистрировалось в 53,3% случаев (n = 567). В 37,4% случаев (n = 397) отмечено полиинфицирование ВПЧ.
Количество участников исследования в разных возрастных группах было неодинаковым (p < 0,001), значимых различий в весе, жалобах при первичном обращении к врачу, в наличии ВПЧ-вакцинации, возрасте начала половой жизни, терапевтического лечения патологии шейки матки и ИППП, в наличии сопутствующей гинекологического заболевания или инфекции, наличии уксусно-белого эпителия, мозаики и пунктации при расширенной кольпоскопии не наблюдалось (p > 0,05). Результаты анализа факторов связанных с КФ ПВИ, показали значительные различия в количестве половых партнеров, беременностей и родов, в наличии хирургического вмешательства на шейке матки в анамнезе, длительности ПВИ более 6 месяцев, числе лейкоцитов в цервикальном секрете, типе лейкоцитарной реакции и вирусной нагрузки, типе зоны трансформации, наличии кондилом между всеми КФ (р < 0,05). По мере прогрессирования заболевания уменьшаются такие клинические проявления ПВИ, как кондиломы. В табл. 1 представлены результаты анализа данных пациенток, включенных в исследование в зависимости от КФ.
Таблица 1. Клиническая характеристика пациенток в зависимости от КФ
Table 1. CF-based patient clinical characteristics
Группа I Group I (n = 128) | Группа II Group II (n = 155) | Группа III Group III (n = 200) | Группа IV Group IV (n = 332) | Группа V Group V (n = 95) | Группа VI Group VI (n = 54) | Р значение P value | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Возраст Age | 31 [26; 36] | 31 [26; 37] | 32 [28; 37] | 34 [29; 39] | 37 [31; 42] | 37 [33; 42] | < 0,001 p1–4 = 0,003 p1–5 < 0,001 p1–6 < 0,001 p2–4 < 0,001 p2–5 < 0,001 p2–6 < 0,001 p3–5 = 0,002 p3–6 = 0,003 |
Вес Weight | 59 [55; 67] | 60 [55; 70] | 60 [55; 70] | 65 [55; 70] | 0,091 | ||
Жалобы Complaints | 28 (22) | 23 (14,9) | 32 (16,5) | 46 (14,4) | 15 (15,8) | 15 (28,3) | 0,1 |
Менархе Menarche | 13 [12; 14] | 13 [13; 14] | 13 [12; 14] | 13 [12; 14] | 13 [12; 14] | 13,5 [12; 14] | 0,914 |
Начало половой жизни Sexual life onset | 18 [17; 20] | 18 [17; 19] | 18 [17; 19] | 18 [17; 19] | 18 [17; 19] | 18 [17; 19] | 0,162 |
Число половых партнеров Number of sexual partners | 4 [2; 5] | 3 [2; 5] | 5 [3; 8] | 4 [2; 7] | 5 [3; 10] | 5 [3; 10] | 0,009 |
Беременность Pregnancies | 1 [0; 2] | 1 [0; 2] | 1 [0; 2] | 1 [0; 2] | 2 [1; 3] | < 0,001 p1–4 = 0,011 p1–5 < 0,001 p2–5 = 0,005 | |
Роды Childbirth | 0 [0; 1] | 0 [0; 1] | 1 [0; 2] | 1 [0; 2] | 1 [0; 2] | 1 [0; 2] | 0,006 |
ВПЧ вакцинация HPV vaccination | 0 (0) | 2 (1,3) | 1 (0,5) | 5 (1,6) | 0 (0) | 1 (1,9) | 0,482 |
Терапевтическое лечение Therapeutics treatment | 60 (46,9) | 77 (49,7) | 83 (42,8) | 134 (42) | 34 (35,8) | 3 (23,1) | 0,166 |
Хирургическое лечение Surgical treatment | 31 (24,2) | 43 (27,7) | 37 (19,1) | 112 (35,1) | 44 (46,3) | 4 (30,8) | < 0,001 p1–5 = 0,007 p2–5= 0,033 p3–4 = 0,001 p3–5 < 0,001 |
Наличие сопутствующих гинекологических заболеваний Concomitant gynecological comorbidity | 89 (69,5) | 105 (67,7) | 140 (72,2) | 232 (73) | 60 (63,2) | 37 (71,2) | 0,512 |
Наличие сопутствующих гинекологических инфекций Concomitant gynecological infections | 21 (16,5) | 33 (21,3) | 31 (16) | 45 (14,2) | 12 (12,6) | 6 (11,5) | 0,34 |
ВПЧ в анамнезе HPV in anamnesis | 100 (78,1) | 115 (74,2) | 122 (64,2) | 223 (69,7) | 58 (61,1) | 22 (45,8) | < 0,001 p1–6 < 0,001 p2–6 = 0,003 p4–6 = 0,014 |
Число лейкоцитов Number of leukocytes | 10 [5; 25] | 8 [5; 15] | 15 [8; 25] | 13 [5; 15] | 20 [15; 35] | < 0,001 p1–5 = 0,044 p2–3 = 0,029 p2–5 < 0,001 p4–5 = 0,003 | |
Лейкоцитарная реакция Leukocytic reaction |
|
|
|
|
|
|
|
I тип/I type | 10 (20,4) | 13 (21,3) | 8 (11,8) | 14 (13,9) | 1 (3,6) | 1 (16,7) | 0,003 p1–5 = 0,033 p2–5 = 0,008 p4–5 = 0,012 |
II тип/II type | 18 (36,7) | 26 (42,6) | 21 (30,9) | 48 (47,5) | 4 (14,3) | 1 (16,7) |
|
III тип/III type | 14 (28,6) | 21 (34,4) | 30 (44,1) | 34 (33,7) | 20 (71,4) | 3 (50) |
|
IV тип/IV type | 7 (14,3) | 1 (1,6) | 9 (13,2) | 5 (5) | 3 (10,7) | 1 (16,7) |
|
Вирусная нагрузка (lg копий ДНК/105) Viral load (lg copies DNA/105) | 0,003 p1–2 = 0,008 p1–3 = 0,012 p1–5 = 0,007 | ||||||
Зона трансформации Transformation zone |
|
|
|
|
|
|
|
1 тип/1 type | 30 (23,8) | 32 (21,3) | 64 (33,9) | 96 (30,6) | 31 (33,3) | 20 (41,7) | 0,02 |
2 тип/2 type | 27 (21,4) | 51 (34) | 54 (28,6) | 91 (29) | 26 (28) | 14 (29,2) |
|
3 тип/3 type | 69 (54,8) | 67 (44,7) | 71 (37,6) | 127 (40,4) | 36 (38,7) | 14 (29,2) |
|
УБЭ AWE | 103 (81,1) | 137 (89) | 170 (88,5) | 272 (85,3) | 78 (83) | 40 (83,3) | 0,346 |
УБЭ+М+П AWE+M+P | 51 (40,2) | 67 (43,5) | 92 (47,9) | 159 (49,8) | 40 (42,6) | 29 (60,4) | 0,133 |
Кондиломы Condylomas | 54 (42,5) | 45 (29,2) | 49 (25,1) | 67 (21) | 17 (18,1) | 11 (20,8) | < 0,001 p1–3 = 0,014 p1–4 < 0,001 p1–5 = 0,002 |
Моноинфицирование Monoinfection | 73 (57) | 78 (50,3) | 113 (56,5) | 212 (63,9) | 63 (66,3) | 28 (51,9) | 0,053 |
Примечание. Me [IQR]; n (%); ПВИ — папилломавирусная инфекция; РШМ — рак шейки матки; М — мозаика; П — пунктация; УБЭ — уксусно-белый эпителий. Вирусная нагрузка рассчитана исходя из значений ведущего (наибольшего lg копий ДНК ВПЧ на 105 эпителиальных клеток) типа ВПЧ; наличие сопутствующей гинекологической инфекции оценивали исходя из следующих патогенов: Candida spp., Ureaplasma spp., Chlamydia, CMV, HSV-1, Gardnerella vaginalis, Mycoplasma hominis.
Note. Me [IQR]; n (%); PVI — papillomavirus infection; CC — cervical cancer; M — mosaic; P — punctation; AWE — acetic-white epithelium. Viral load was calculated based on the values of the leading (highest lg of HPV DNA copies per 105 epithelial cells) HPV type; the presence of concomitant gynecologic infection was assessed based on the following pathogens: Candida spp., Ureaplasma spp., Chlamydia, CMV, HSV-1, Gardnerella vaginalis, Mycoplasma hominis.
Сравнительная характеристика КФ в зависимости от инфицирования ВПЧ
Нами проанализированы частоты встречаемости ВПЧ ВКР в общей когорте, при моно-/полиинфицировании, в зависимости от КФ и при моно-/полиинфицировании в зависимости от КФ. По результатам ВПЧ-тестирования у 964 пациенток обнаружена активная ПВИ (рис. 2А). В подавляющем большинстве это была ВПЧ16. ВПЧ18, ВПЧ31, ВПЧ52 и ВПЧ58 встречались в 5–10% случаев. Доля остальных ВПЧ ВКР была менее 5%.
Рисунок 2. А. Частота встречаемости ВПЧ ВКР в общей выборке пациенток. Б. Частота встречаемости ВПЧ ВКР в зависимости от моно- и полиинфицирования. В. Частота встречаемости ВПЧ ВКР в зависимости от КФ
Figure 2. A. Frequency of high-risk HPV viruses in total patient cohort. B. Frequency of high-risk HPV viruses related to mono- and polyinfection. C. Frequency of high-risk HPV viruses related to clinical forms
При анализе структуры ВПЧ ВКР в зависимости от моно- и полиинфицирования (рис. 2Б) нами обнаружено, что ВПЧ16 на 12,61% чаще встречается при моноинфицировании (p = 0,0001). Доля остальных ВПЧ ВКР превалировала при полиинфицировании: ВПЧ18 — в 3,6 раза (p < 0,0001); ВПЧ31 — в 3,2 раза (p < 0,0001); ВПЧ33 — в 4,6 раза (p = 0,0021); ВПЧ35 — в 6,2 раза (p < 0,0001); ВПЧ39 — в 4,2 раза (p < 0,0001); ВПЧ45 — в 3,1 раза (p = 0,0006); ВПЧ51 — в 5,2 раза (p < 0,0001); ВПЧ52 — в 3,4 раза (p < 0,0001); ВПЧ56 — в 4,4 раза (p < 0,0001); ВПЧ58 — в 5,8 раз (p < 0,0001); ВПЧ59 — в 32,2 раза (p < 0,0001); ВПЧ66 — в 8,1 раза (p = 0,0001); ВПЧ68 — в 30,8 раз (p < 0,0001).
При анализе частот встречаемости ВПЧ ВКР в зависимости от КФ (рис. 2В) определено, что максимальная частота встречаемости ВПЧ16 наблюдается у пациенток с CIN III/HSIL и карциномой in situ, по сравнению с остальными КФ (p < 0,0001). ВПЧ31 статистически значимо чаще регистрировался при CIN I/LSIL и CIN II/HSIL, по сравнению с остальными КФ (p = 0,0142). ВПЧ39 статистически значимо чаще встречается у пациенток с CIN I/LSIL и вирусоносительстве при анализе с другими КФ (p = 0,0001). ВПЧ51 типа значимо превалировал у пациенток с CIN I/LSIL по сравнению с остальными КФ (p = 0,0007). ВПЧ58 выявлялся у пациенток с CIN II/HSIL статистически значимо чаще, чем при других клинических формах (p = 0,0077). При CIN I/LSIL наблюдали доминирование ВПЧ66 типа (p = 0,0339). Остальные типы ВПЧ не имели статистически значимых различий частоты регистрации в зависимости от КФ.
При оценке частоты встречаемости ВПЧ ВКР при моноинфицировании в зависимости от КФ (рис. 3A) было обнаружено, что частота регистрации ВПЧ16 нарастает от вирусоносительства к инвазивному РШМ (p < 0,0001). ВПЧ31 превалирует у пациенток при вирусоносительстве и начальных КФ ПВИ по сравнению с CIN III/HISL, карциномой in situ и инвазивным РШМ (p = 0,0103). ВПЧ39 встречался на одинаково сопоставимом уровне у CIN I/LSIL и вирусоносителей по сравнению с остальными КФ (p = 0,0009). ВПЧ51 в 2,8 раза чаще встречается у CIN I/LSIL по сравнению с вирусоносителями. По мере нарастания степени тяжести КФ частота регистрации ВПЧ51 снижается (p = 0,0002). При CIN III/HSIL, карциноме in situ и инвазивном РШМ ВПЧ51 не регистрировался. ВПЧ58 был обнаружен только в КФ с CIN I/LSIL, CIN II/HSIL и CIN III/HSIL. При нарастании степени тяжесть КФ частота регистрации ВПЧ58 снижалась (p = 0,0093). Остальные ВПЧ ВКР не имели значимых различий по частоте встречаемости в зависимости от КФ.
Частота встречаемости ВПЧ ВКР при полиинфицировании находится на одинаково сопоставимом уровне в зависимости от КФ (рис. 3Б).
Рисунок 3. А. Частота встречаемости ВПЧ ВКР в зависимости от КФ при моноинфицировании. Б. Частота встречаемости ВПЧ ВКР в зависимости от КФ при полиинфицировании
Figure 3. A. Frequency of high-risk HPV viruses based on clinical forms in monoinfection. B. Frequency of high-risk HPV viruses based on clinical forms in polyinfection
Анализ вирусной нагрузки, числа лейкоцитов в цервикальном секрете и типа лейкоцитарной реакции
Проведен субанализ вирусной нагрузки у 519 пациенток. Медиана вирусной нагрузки в полученной когорте была 5,86. У пациенток с моноинфицированием (Me [IQR] = 5,8 [4, 7–6, 9]) вирусная нагрузка была ниже, по сравнению с полиинфицированим (Me = 6). Различия не были статистически значимыми (p = 0,25).
Самая высокая вирусная нагрузка выявлена у пациенток с карциномой in situ (Me [IQR] = 6,32 [5, 45–7, 63]), а наименьшее значение при вирусоносительстве (Me [IQR] = 5,2 [4, 2–6, 1]). Различия были статистически значимыми (р = 0,003). При post-hoc анализе обнаружено, что вирусная нагрузка при ПВИ без КФ ниже при сравнении с CIN I (Me [IQR] = 6,25 [5, 14–6, 97] — p = 0,008), CIN II (Me [IQR] = 6,1 [5–7, 11] — p = 0,012) и карциномой in situ (Me [IQR] = 6,32 [5, 45–7, 63] — p = 0,007). При сравнении ПВИ без КФ с CIN III и инвазивным РШМ вирусная нагрузка была на одинаково сопоставимом уровне (p > 0,05).
Проведена оценка инфицирования альфа-семействами ВПЧ при различных КФ (рис. 4А).
Рисунок 4. Вирусная нагрузка и инфицированность альфа-семейством ВПЧ в зависимости от исследуемых групп. А. Инфицирование альфа-семействами ВПЧ в зависимости от степени тяжести ПВИ. Б. Вирусная нагрузка при инфицировании ВПЧ А9. В. Вирусная нагрузка при инфицировании ВПЧ А7. Г. Вирусная нагрузка при инфицировании ВПЧ А6. Д. Вирусная нагрузка при инфицировании ВПЧ А5
Figure 4. Viral load and HPV alpha-family infection. A. HPV alpha-family infection related to PVI severity. B. Viral load in HPV A9 infection. C. Viral load in HPV A7 infection. D. Viral load in HPV A6 infection. E. Viral load in HPV A5 infection
Примечание. Красной пунктирной линией обозначена медиана вирусной нагрузки альфа-семейства ВПЧ.
Note. The red dotted line denotes the median HPV alpha-family viral load.
Инфицированность ВПЧ различными альфа-семействами имеет статистически значимые различия (p < 0,001). Обнаружено, что инфицирование семействами А6 и А7 в группе I выше в 2,24 и 2,83 раза соответственно по сравнению с группой III (p = 0,017). В группе IV нарастает инфицирование ВПЧ из семейства А9 на 23,6% по сравнению с группой I, а ВПЧ из остальных семейств встречаются значительно реже (p < 0,001). Аналогичная ситуация прослеживается и для пациенток из группы V (p = 0,006). В группе II статистически значимо выше инфицированность ВПЧ из семейств А7, А6 и А5 в 1,93; 2,93; 4,04 раза соответственно по сравнению с группой III (p = 0,005). При сравнении групп II и IV прослеживается схожий и нарастающий тренд инфицирования семействами А5, A6, А7 (p < 0,001). У пациенток из групп V и VI отсутствует инфицирование ВПЧ из семейств А5 и А6 по сравнению с остальными группами.
Проведен анализ вирусной нагрузки в зависимости от альфа-семейства ВПЧ. Вирусная нагрузка нарастает от семейства А7A9А6А5 (p = 0,018). По результатам оценки вирусной нагрузки в различных альфа-семействах ВПЧ в зависимости от КФ обнаружено, что в группе V (Me[IQR] = 6,3 [5, 55–8]) и VI (Me[IQR] = 6,3 [5, 2–8, 1]) пациентки имеют самую высокую вирусную нагрузку, а группы I (Me[IQR] = 5,2 [3, 9–6]) и II (Me[IQR] = 5,76 [4, 88–6, 8]) наименьшую (р = 0,004) при инфицировании ВПЧ из семейства А9 (рис. 4Б). Для семейств A7 (рис. 4В), A6 (рис. 4Г) и А5 (рис. 4Д) статистически значимых различий вирусной нагрузки обнаружено не было (p = 0,765, p = 0,539 и p = 575 соответственно).
Проведена оценка корреляционной связи вирусной нагрузки с числом лейкоцитов в цервикальном секрете, типом лейкоцитарной реакции и типом зоны трансформации (табл. 2). В общей когорте значимой корреляции между вирусной нагрузкой и числом лейкоцитов в цервикальном секрете не обнаружено (rS = 0,033, p = 0,628). III тип лейкоцитарной реакции имел статистически значимо слабую корреляционную связь с вирусной нагрузкой (rS = 0,155, p = 0,023). Остальные типы лейкоцитарной реакции не имели значимых корреляционных связей. Внутри исследуемых групп также не обнаружено статистически значимых корреляционных связей между вирусной нагрузкой и числом лейкоцитов в цервикальном секрете. При корреляционном анализе вирусной нагрузки с типом зоны трансформации шейки матки нам не удалось обнаружить статистически значимых связей (p > 0,05). Однако пациентки со 2-м типом зоны трансформации из группы II имеют тренд на прямую зависимость (rS = 0,21, p = 0,052).
Таблица 2. Корреляционный анализ вирусной нагрузки, типом лейкоцитарной реакции, числом лейкоцитов в цервикальном секрете и типа ЗТ в зависимости от исследуемых групп
Table 2. Correlation between viral load, leukocyte reaction type, cervical smear leukocyte count and transformation zone types
Группа I Group I | Группа II Group II | Группа III Group III | Группа IV Group IV | Группа V Group V | Группа VI Group VI | |
Лейкоцитарная реакция Leukocyte reaction | ||||||
I тип/I type | –0,125/0,476 | 0,178/0,285 | 0,03/0,84 | –0,069/0,572 | 0,164/0,515 | –0,775/0,225 |
II тип/II type | –0,058/0,741 | –0,071/0,674 | 0,127/0,39 | –0,164/0,175 | –0,258/0,302 | NaN |
III тип/III type | 0,269/0,118 | –0,086/0,608 | –0,065/0,661 | 0,261/0,029 | 0,159/0,529 | 0,894/0,106 |
IV тип/IV type | –0,113/0,519 | NaN/NaN | –0,105/0,479 | –0,086/0,481 | –0,164/0,515 | –0,258/0,742 |
Число лейкоцитов в цервикальном секрете Number of leukocytes in the cervical smear | 0,101/0,564 | –0,148/0,376 | –0,156/0,288 | 0,171/0,156 | –0,09/0,732 | 0,2/0,8 |
Тип зоны трансформации Transformation zone type | ||||||
I тип/I type | –0,172/0,137 | –0,08/0,464 | –0,071/0,452 | –0,03/0,693 | 0,035/0,825 | –0,352/0,218 |
II тип/II type | 0,184/0,112 | 0,21/0,052 | –0,002/0,983 | –0,009/0,904 | 0,131/0,402 | 0,393/0,165 |
III тип/III type | –0,013/0,913 | –0,141/0,197 | 0,073/0,439 | 0,037/0,623 | –0,147/0,346 | –0,034/0,907 |
Примечание. NaN — нет данных. Значения в ячейках отражают силу корреляционной связи и ее значимость (rS/P значение).
Note. NaN — no data. The values in the cells reflect the strength of the correlation and its significance (rS/P value).
Рисунок 5. A. Распределение КФ в структуре ВПЧ ВКР. Б. Распределение моно-/полиинфицирования в структуре ВПЧ ВКР
Figure 5. A. Distribution of clinical forms in high-risk HPV pattern. B. Distribution of mono-/polyinfection in high-risk HPV pattern
Сравнительная характеристика КФ в структуре ПВИ
Проведен анализ распределения КФ в зависимости от ВПЧ ВКР (рис. 5А). Обнаружено статистически значимое превалирование в частоте встречаемости: ВПЧ16 в CIN II/HSIL (20,9%) и CIN III/HSIL (37,6%) — p < 0,001; ВПЧ31 в CIN II/HSIL (31,2%) и CIN III/HSIL (28%) — p = 0,02; ВПЧ39 в CIN I/LSIL (36,2%) — p < 0,001; ВПЧ51 в CIN I/LSIL (38,1%) и CIN II/HSIL (28,6%) — p < 0,001; ВПЧ58 в CIN II/HSIL (37,5%) и CIN III/HSIL (30,4%) — p = 0,011; ВПЧ66 при вирусоносительстве и CIN I/LSIL (40%) — p = 0,036. Проведен анализ распределения моно- и полиинфицировании в структуре ВПЧ ВКР (рис. 5Б). В структуре инфекции ВПЧ16 статистически значимо чаще (p < 0,001) встречались случаи моноинфицирования (64,6%), чем полиинфицирования (35,4%). Остальные типы ВПЧ ВКР имели характер полиинфицирования (p < 0,001).
При анализе распределения КФ в зависимости от типов ВПЧ ВКР при моно- и полиинфицировании обнаружено, что в структуре ВПЧ45 при полинфицировании чаще встречаются пациентки с вирусоносительством (p = 0,0302). CIN I/LSIL с полиинфицированием превалирует в структуре ВПЧ68 (p = 0,0359). CIN II/HSIL с полиинфицированием преобладают в структуре ВПЧ18, ВПЧ39, ВПЧ51, ВПЧ52, ВПЧ56, ВПЧ58, ВПЧ59 и ВПЧ68 типы по сравнению с мониинфицированием (p < 0,001, p = 0,0157, p = 0,0015, p = 0,0261, p = 0,0136, p = 0,0423, p = 0,0073 и p = 0,0157 соответственно). CIN III/HSIL на фоне моноинфицирования превалировало в структуре ВПЧ16 (p = 0,0013). CIN III/HSIL на фоне полиинфицирования превалировало в структуре остальных типов ВПЧ ВКР, кроме ВПЧ45 и ВПЧ66 (ВПЧ18 — p = 0,0006; ВПЧ31 — p < 0,0001; ВПЧ35 — p = 0,0115; ВПЧ39 — p = 0,0224; ВПЧ51 — p = 0,0043; ВПЧ52 — p = 0,0003; ВПЧ56 — p = 0,0039; ВПЧ58 — p < 0,0001; ВПЧ59 — p = 0,0043; ВПЧ68 — p = 0,0043). Пациентки с карциномой in situ преобладают в структуре ВПЧ18, ВПЧ31, ВПЧ35, ВПЧ58 при полиинфицировании (p = 0,0238, p = 0,0269, p = 0,02, p = 0,0062). Пациентки больные РШМ в основном регистрируются в структуре ВПЧ16 при моноинфицировании (p = 0,0004).
Таким образом, вирусоносительство и CIN I/LSIL в структуре ВПЧ при полинфицировании чаще встречаются для ВПЧ45 и ВПЧ68 — семейство А7. CIN II/HSIL на фоне полиинфицирования чаще встречается у ВПЧ18, ВПЧ39, ВПЧ59, ВПЧ68 — A7; ВПЧ56 — A6; ВПЧ51 — A5; ВПЧ52, ВПЧ58 — A9. CIN III/HSIL на фоне моноинфекции чаще встречался в структуре ВПЧ16 — A9. CIN III/HSIL на фоне полиинфицирования чаще встречался в структуре семейств: A5 — ВПЧ51; A6 — ВПЧ56; А7 — ВПЧ18, ВПЧ39, ВПЧ59, ВПЧ68; A9 — ВПЧ31, ВПЧ35, ВПЧ52, ВПЧ58. Карцинома in situ на фоне полиинфицирования чаще встречалась в структуре семейств: A7 — ВПЧ18; A9 — ВПЧ31, ВПЧ35, ВПЧ58. РШМ регистрировался статистически значимо при моноинфицировании в структуре ВПЧ16 — семейство А9.
Обсуждение
В 2008 г. была доказана роль ВПЧ в развитии КФ ПВИ и РШМ, за что Харальду цур Хаузену была присуждена Нобелевская премия [21].
Известно, что белки Е6 и Е7 наделяют вирус онкогенным потенциалом и оказывают влияние на белки супрессоры опухолевой трансформации. Онкопротеин Е6 способен вызывать деградацию белка гена P53, а Е7 подавляет белок ретинобластомы [7, 39, 48]. С появлением новых научных данных в текущей модели канцерогенеза стали появляться несоответствия. Например, белок Е6 ВПЧ58 вызывает деградацию белка гена Р53 при концентрации в 17 раз меньшей, чем таковая у родственного ВПЧ16. Для ВПЧ59 концентрации этого онкопротеина требуется уже в 53 раза меньше, чем для ВПЧ18 [44, 48]. Таким образом онкогенный потенциал ВПЧ необходимо оценивать шире, нежели только через единый механизм блокирования апоптоза и активацию пролиферации опухолевых клеток. Наличие рекомбинаций между двумя и более родственными вирусами дает преимущество новому типу вируса перед вирусами-донорами. Согласно Van Doorslaer K. (2013), в процессе эволюционирования каждый тип папилломавирусов оптимизировал свой генетический код, чтобы инфицировать определенный тип клеток у своего хозяина [43].
Большинством авторов ранее начало половой жизни описывается как неблагоприятный фактор для развития РШМ [29, 46]. Примечательно, но нам не удалось установить различий между возрастом начала половой жизни и степенью тяжести КФ. Однако по нашим данным число половых партнеров оказывает значимое влияние. Это может свидетельствовать о том, что первый половой контакт может происходить в разные возрастные периоды, а та вирусно-бактериальная нагрузка, которая происходит при частой смене полового партнера, увеличивает шансы на интеграцию ВПЧ и развитие РШМ.
Вопросы взаимодействия вирусов и бактериальных инфекций приобретают все большее значение. Влияние сопутствующих инфекций на динамику инфицирования ВПЧ также является важным аспектом этого процесса. Нами не обнаружено значимых различий у пациенток с сопутствующей гинекологической инфекцией при активной ПВИ в зависимости от КФ, включенных в наше исследование. Однако по результатам проведенного мета-анализа Liang и соавт. (2019) было показано, что бактериальный вагиноз, Chlamydia trachomatis и Ureaplasma urealyticum ассоциированы с повышенной частотой инфицирования ВПЧ, в то время как Candida albicans — cо снижением частоты инфицирования [25].
Роль типового профиля ВПЧ ВКР в развитие конкретных КФ остается неопределенной. Большинство панелей для ВПЧ-тестирования используют для определения наиболее часто встречающихся ВПЧ ВКР (16, 18, 31, 33, 35, 39, 51, 52, 56, 58, 59, 66 и 68 типы), что позволяет оценить типовой ВПЧ ВКР профиль на основе семейств alpha-ветви. По результатам нашего исследования роль ВПЧ16 остается ведущей в развитии инвазивного РШМ. Почти половина (46,16%) из исследуемых пациенток были инфицированы данным типом. Частота встречаемости остальных типов не превышала 10%. Примечательно, что ВПЧ16 чаще встречается при моноинфицировании, а остальные типы при полиинфицировании. Эта особенность инфицирования наводит на мысль о том, что в геноме ВПЧ16 содержатся ключевые гены, определяющие характеристики остальных ВПЧ ВКР. Длительная персистенция приводила к генетическим мутациям и появлению новых ВПЧ ВКР. Согласно нашим предположениям, для персистенции остальных типов ВПЧ ВКР необходима коинфицированность. С другой стороны, основываясь на теории о едином родстве ВПЧ ВКР, можно предположить, что при инфицировании ВПЧ ВКР происходит экспрессия древних генов ответственных за репликацию ВПЧ16-подобного типа. Результатом репликации является выявление при ВПЧ-тестировании именно ВПЧ16. На это указывают ранее проведенные работы по изучению вирусной нагрузки как прогностического фактора риска развития дисплазии и РШМ [34]. Однако положительные результаты корреляции вирусной нагрузки с развитием HSIL и РШМ были получены только для ВПЧ16 [9, 31], что также косвенно подтверждает теорию об экспрессии «древних» генов и репликации ВПЧ16-подобного типа.
При полиинфицировании нами обнаружены ВПЧ16, ВПЧ18, ВПЧ31, ВПЧ52 и ВПЧ58. Остальные ВПЧ ВКР встречались в менее 10% случаев. Интересно, что ВПЧ16, ВПЧ31, ВПЧ52 и ВПЧ58 имеют общую ветвь филогенетического дерева. Согласно предположениям Van Doorslaer K. (2013), ВПЧ31, ВПЧ52 и ВПЧ58 могут быть рекомбинантами ВПЧ16 — основного вируса-донора [43]. В нашей работе раскрываются иные данные относительно вирусной нагрузки и ее влияния на прогрессирование CIN и развитие РШМ. Вирусная нагрузка нарастает при инфицировании ВПЧ из семейства А9, а при инфицировании семейством А6 происходит ее снижение. При инфицировании ВПЧ из семейств А7 и А5 обнаруживается волнообразное течение инфекции.
Влияние вирусной нагрузки в канцерогенезе остается противоречивой. По данным исследования по оценке влияния вирусной нагрузки ВПЧ16 типа было выдвинуто предположение о том, что высокая вирусная нагрузка увеличивает риск перехода инфекции в интегративную форму и может быть фактором риска развития CIN и РШМ [1]. Противоположные данные получены в исследовании, проведенном в Колумбии [13]. Авторами обнаружено значимое снижение вирусной нагрузки при прогрессировании CIN при инфицировании ВПЧ16 и ВПЧ31. Нами установлена наибольшая вирусная нагрузка при карциноме in situ. В исследовании Zuo и соавт. (2019) снижение вирусной нагрузки описывают как неблагоприятный прогностический фактор выживаемости [50].
По результатам оценки структуры ВПЧ ВКР в зависимости от КФ определено, что филогенетическая ветвь alpha ответственна за развитие КФ, однако при тяжелых клинических формах встречаются типы из семейства А9 (ВПЧ16, ВПЧ31, ВПЧ58), а на начальных стадиях КФ встречаются из alpha-ветвей соседей (ВПЧ51 — семейство А5 и ВПЧ66 — семейство А6). Такое деление семейств может помочь при определении тактик ведения пациентов клиницистами. Полиинфицирование ВПЧ при тяжелых КФ показало переход от семейств A5, A6 и A7, которые имеют низкую степень родства с ВПЧ16, к семейству A9 с высокой степенью родства. Это сопровождается высокой значимостью моноинфицирования ВПЧ16 при РШМ, что может свидетельствовать о гипотезе об экспрессии «древних» генов, ответственных за репликацию ВПЧ16-подобного типа, особенно при тяжелых КФ.
Традиционное представление о ВПЧ высокого и низкого канцерогенного потенциала не может в полной мере объяснить механизм канцерогенеза ПВИ шейки матки. Так, например, ВПЧ6/ВПЧ11 имеют тропность к другой анатомической нише тела человека и разделены примерно 30 млн лет эволюционных изменений с ВПЧ16 и ВПЧ18 [43]. Анализ типового профиля ПВИ может способствовать обнаружению новых механизмов развития рака, основанных на вирусной теории, включая РШМ.
Заключение
При ВПЧ-тестировании учитываются такие факторы, как канцерогенный риск, уровень вирусной нагрузки. При выявлении полиинфицирования ВПЧ также определяют семейство, к которому принадлежит конкретный тип. Тем не менее вопросы, касающиеся моно- и полиинфицирования, включая комбинированные случаи полиинфицирования ВПЧ и их влияние на течение ПВИ и переход в КФ разной степени тяжести, остаются недостаточно изученными. Подавляющее большинство работ по эпидемиологии ВПЧ ВКР оценивают распространенность среди КФ. Однако анализ КФ в структуре ПВИ в зависимости от моно-/полинфицирования и типовой принадлежности ВПЧ не проводился, что делает значимым вклад данной работы в эпидемиологическую составляющую ПВИ. Дополнительно исследование помогает определить влияние типового профиля ПВИ в развитии КФ при моно- или полиинфицировании. Это позволит клиническому специалисту определиться с дальнейшей тактикой ведения пациентки. Представленные в нашем исследовании результаты, а также данные литературы, указывают на сложное взаимодействие между вирусной репликацией и злокачественной трансформацией эпителиальной клетки. Этот феномен можно охарактеризовать как своеобразный «равновесный» процесс симбиоза — репликации вируса и злокачественной трансформации эпителиальной клетки, где ключевую роль в поддержании этого равновесия играет иммунная система человека.
В процессе злокачественной трансформации клеток, обусловленной вирусной инфекцией, наблюдается тонкий баланс между вирусной репликацией и онкогенным потенциалом клетки. При полноценном противоопухолевом иммунном ответе организм эффективно распознает и устраняет аномальные клетки, что приводит к программируемой клеточной гибели. Однако при недостаточном или ослабленном иммунном ответе этот механизм нарушается, что позволяет трансформированным клеткам избегать апоптоза и продолжать делиться. Опухолевые клетки способны адаптироваться к присутствию вируса. Они могут подавлять механизмы, необходимые для вирусной репликации, что подтверждается снижением вирусной нагрузки при РШМ. Это свидетельствует о том, что вирусная репликация и злокачественная трансформация находятся в постоянном конфликте, стремясь к установлению равновесия, которое способствует выживанию клетки-хозяина несмотря на присутствие вируса. Этот процесс можно рассматривать как стратегию выживания опухолевых клеток, при которой снижение вирусной нагрузки является адаптивным ответом, позволяющим клеткам избегать иммунного распознавания и уничтожения. Это явление подчеркивает важность иммунной системы в контроле как вирусной активности, так и онкогенной трансформации клеток. В условиях ослабленного иммунного ответа баланс смещается в сторону опухолевой прогрессии, что требует дальнейших исследований для разработки более эффективных терапевтических подходов. Такие подходы должны быть направлены на усиление противоопухолевого иммунного ответа и восстановление механизмов программируемой клеточной гибели в трансформированных клетках.
Согласно проведенному нами исследованию, при переходе ПВИ от поли- к моноинфицированию можно судить об агрессивности течения ПВИ при выявлении морфологических изменений в клетках, а снижение вирусной нагрузки говорит о начале злокачественной трансформации при инфицировании ВПЧ из семейств А9 и А7. На сегодняшний день скрининг ВПЧ ВКР (не менее 12 типов) рекомендуется проводить у пациенток в возрасте от 30 до 65 лет и вне зависимости от возраста при выявлении атипичных или злокачественных клеток по данным цитограммы [3]. В рамках клинической практики чаще проводят тестирование только ВПЧ16/ВПЧ18, однако данные нашего исследования показывают вариативность типов ВПЧ (ВПЧ45/ВПЧ52 и др.) у пациенток больных РШМ и другими КФ. Существенным недостатком данной работы является оценка лишь 14 типов ВПЧ ВКР, что не позволяет в полной мере оценить вклад и других типов ВПЧ ВКР в развитие КФ. Еще одним недостатком данной работы является отсутствие разделения пациенток по этнической принадлежности и региону проживания, что может оказывать влияние на наличие конкретного типа ВПЧ ВКР.
Дополнительная информация
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки (собственные ресурсы).
Об авторах
М. С. Афанасьев
ФГАОУ ВО ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет)
Email: alex@drdushkin.ru
д.м.н., профессор кафедры клинической аллергологии и иммунологии Института клинической медицины имени Н.В. Склифосовского
Россия, МоскваА. Д. Душкин
ФГАОУ ВО ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет); ГБУЗ Городская клиническая больница № 52 Департамента здравоохранения города Москвы
Email: alex@drdushkin.ru
к.м.н., аналитик данных проектного офиса, аналитик данных лаборатории иммунопатологии
Россия, Москва; МоскваС. С. Афанасьев
ФБУН Московский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора
Email: alex@drdushkin.ru
заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., профессор, главный научный сотрудник
Россия, МоскваЮ. В. Несвижский
ФГАОУ ВО ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет)
Email: alex@drdushkin.ru
д.м.н., профессор, профессор кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии академика А.А. Воробьева Института общественного здоровья им. Ф.Ф. Эрисмана
Россия, МоскваТ. Г. Гришачева
ФГБОУ ВО Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова Министерства здравоохранения РФ
Email: alex@drdushkin.ru
к.б.н., директор центра лазерной медицины
Россия, Санкт-ПетербургЕ. С. Бирюкова
ФГАОУ ВО ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет)
Email: alex@drdushkin.ru
аспирант кафедры клинической иммунологии и аллергологии Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского
Россия, МоскваО. Ю. Борисова
ФБУН Московский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора
Email: alex@drdushkin.ru
д.м.н., профессор, руководитель лаборатории диагностики дифтерийной инфекции
Россия, МоскваИ. А. Душкина
ГБУЗ Городская клиническая больница № 67 им. Л.А. Ворохобова Департамента здравоохранения города Москвы
Email: alex@drdushkin.ru
к.м.н., врач акушер-гинеколог гинекологического отделения
Россия, МоскваА. В. Караулов
ФГАОУ ВО ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет)
Автор, ответственный за переписку.
Email: alex@drdushkin.ru
д.м.н., профессор, академик РАН, зав. кафедрой клинической иммунологии и аллергологии
Россия, МоскваСписок литературы
- Ибрагимова М.К., Цыганов М.М., Карабут И.В., Чуруксаева О.Н., Шпилева О.Н., Бычков В.А., Коломиец Л.А., Литвяков Н.В. Интегративная и эписомальная формы генотипа 16 вируса папилломы человека при цервикальных интраэпителиальных неоплазиях и раке шейки матки // Вопросы вирусологии. 2016. Т. 61, № 6. С. 270–274. [Ibragimova M.K., Tsyganov M.M., Karabut I.V., Churuksaeva O.N., Shpileva O.N., Bychkov V.A., Kolomiets L.A., Litviakov N.V. Integrative and episomal forms of genotype 16 of human papillomavirus in patients with cervical intraepithelial neoplasia and cervical cancer. Voprosy virusologii = Problems of Virology, 2016, vol. 61, no. 6, pp. 270–274. (In Russ.)] doi: 10.18821/0507-4088-2016-61-6-270-274
- Караулов А.В, Афанасьев М.С., Бондаренко Н.Л., Афанасьев С.С., Евсегнеева И.В., Алешкин А.В., Несвижский Ю.В., Карсонова А.В., Урбан Ю.Н., Воропаева Е.А., Затевалов А.М., Лахтин В.М., Борисова О.Ю., Калюжин О.В., Борисова А.Б., Лахтин М.В., Пылев Л.А., Воропаев А.Д. Врожденный иммунитет в патогенезе, диагностике и лечении урогенитальной инфекции беременных. М.: ООО «Контакт», 2019. 160 с. [Karaulov A.V., Afanasyev M.S., Bondarenko N.L., Afanasyev S.S., Evsegneeva I.V., Aleshkin A.V., Nesvizh Yu.V., Karsonova A.V., Urban Yu.N., Voropaeva E.A., Zatevalov A.M., Lakhtin V.M., Borisova O.Yu., Kalyuzhin O.V., Borisova A.B., Lakhtin M.V., Pylev L.A., Voropaev A.D. Innate immunity in the pathogenesis, diagnosis and treatment of urogenital infection in pregnant women. Moscow: LLC Contact, 2019. 160 p. (In Russ.)]
- Цервикальная интраэпителиальная неоплазия, эрозия и эктропион шейки матки — 2020–2021–2022 (31.05.2021): клинические рекомендации; утверждены Минздравом Р.Ф. [Cervical intraepithelial neoplasia, erosion and ectropion – 2020–2021–2022 (31.05.2021): Clinical guidelines; Approved by Russian Ministry of Healthcare. (In Russ.)]
- Роговская С.И., Липова Е.В. Шейка матки, влагалище, вульва: физиология, патология, кольпоскопия, эстетическая коррекция. 2-е изд. М.: Медиабюро Статус Презенс, 2016. 832 c. [Rogovskaya S.I., Lipova E.V. The cervix, vagina, vulva: physiology, pathology, colposcopy, aesthetics. Moscow: Status presence, 2016. 832 p. (In Russ.)]
- Bedell M.A., Hudson J.B., Golub T.R., Turyk M.E., Hosken M., Wilbanks G.D., Laimins L.A. Amplification of human papillomavirus genomes in vitro is dependent on epithelial differentiation. J. Virol., 1991, vol. 65, no. 5, pp. 2254–2260. doi: 10.1128/JVI.65.5.2254-2260.1991
- Bernard H.U., Burk R.D., Chen Z., van Doorslaer K., zur Hausen H., de Villiers E.M. Classification of papillomaviruses (PVs) based on 189 PV types and proposal of taxonomic amendments. Virology, 2010, vol. 401, no. 1, pp. 70–79. doi: 10.1016/j.virol.2010.02.002
- Bravo I.G., Félez-Sánchez M. Papillomaviruses: viral evolution, cancer and evolutionary medicine. Evol. Med. Public Health, 2015, vol. 2015, no. 1, pp. 32–51. doi: 10.1093/emph/eov003
- Chen Z., Utro F., Platt D., DeSalle R., Parida L., Chan P.K.S., Burk R.D. K-mer analyses reveal different evolutionary histories of alpha, beta, and gamma papillomaviruses. Int. J. Mol. Sci., 2021, vol. 22, no. 17: 9657. doi: 10.3390/ijms22179657
- Clavel C., Masure M., Bory J.P., Putaud I., Mangeonjean C., Lorenzato M., Nazeyrollas P., Gabriel R., Quereux C., Birembaut P. Human papillomavirus testing in primary screening for the detection of high-grade cervical lesions: a study of 7932 women. Br. J. Cancer, 2001, vol. 84, no. 12, pp. 1616–1623. doi: 10.1054/bjoc.2001.1845
- De Martel C., Georges D., Bray F., Ferlay J., Clifford G.M. Global burden of cancer attributable to infections in 2018: a worldwide incidence analysis. Lancet. Glob. Health., 2020, vol. 8, no. 2, pp. e180–e190. doi: 10.1016/S2214-109X(19)30488-7
- De Martel C., Plummer M., Vignat J., Franceschi S. Worldwide burden of cancer attributable to HPV by site, country and HPV type. Int. J. Cancer., 2017, vol. 141, no. 4, pp. 664–670. doi: 10.1002/ijc.30716
- De Villiers E.M. Cross-roads in the classification of papillomaviruses. Virology, 2013, vol. 445, no. 1–2, pp. 2–10. doi: 10.1016/j.virol.2013.04.023
- Del Río-Ospina L., Soto-De León S.C., Camargo M., Moreno-Pérez D.A., Sánchez R., Pérez-Prados A., Patarroyo M.E., Patarroyo M.A. The DNA load of six high-risk human papillomavirus types and its association with cervical lesions. BMC Cancer, 2015, no. 15: 100. doi: 10.1186/s12885-015-1126-z
- Demarco M., Hyun N., Carter-Pokras O., Raine-Bennett T.R., Cheung L., Chen X., Hammer A., Campos N., Kinney W., Gage J.C., Befano B., Perkins R.B., He X., Dallal C., Chen J., Poitras N., Mayrand M.H., Coutlee F., Burk R.D., Lorey T., Castle P.E., Wentzensen N., Schiffman M. A study of type-specific HPV natural history and implications for contemporary cervical cancer screening programs. EClinicalMedicine, 2020, no. 22: 100293. doi: 10.1016/j.eclinm.2020.100293
- Doorbar J., Quint W., Banks L., Bravo I.G., Stoler M., Broker T.R., Stanley M.A. The biology and life-cycle of human papillomaviruses. Vaccine, 2012, vol. 30, suppl. 5: F55–70. doi: 10.1016/j.vaccine.2012.06.083
- Egawa N., Doorbar J. The low-risk papillomaviruses. Virus Res., 2017, vol. 231, pp. 119–127. doi: 10.1016/j.virusres.2016.12.017
- Fausch S.C., Da Silva D.M., Eiben G.L., Le Poole I.C., Kast W.M. HPV protein/peptide vaccines: from animal models to clinical trials. Front. Biosci., 2003, vol. 8, pp. s81–s91. doi: 10.2741/1009
- Flores E.R., Lambert P.F. Evidence for a switch in the mode of human papillomavirus type 16 DNA replication during the viral life cycle. J. Virol., 1997, vol. 71, no. 10, pp. 7167–7179. doi: 10.1128/JVI.71.10.7167-7179.1997
- Frattini M.G., Lim H.B., Laimins L.A. In vitro synthesis of oncogenic human papillomaviruses requires episomal genomes for differentiation-dependent late expression. Proc. Natl Acad. Sci. USA, 1996, vol. 93, no. 7, pp. 3062–3067. doi: 10.1073/pnas.93.7.3062
- Fryxell K.J., Zuckerkandl E. Cytosine deamination plays a primary role in the evolution of mammalian isochores. Mol. Biol. Evol., 2000, vol. 17, no. 9, pp. 1371–1383. doi: 10.1093/oxfordjournals.molbev.a026420
- Harald zur Hausen – Biographical. NobelPrize.org. Nobel Prize Outreach AB 2024. Tue. 11 Jun 2024.
- IARC monographs on the identification of carcinogenic hazards to humans, online database. URL: https://monographs.iarc.who.int/wp-content/uploads/2022/08/OrganSitePoster.PlusHandbooks.Russian.03082022.pdf (02.01.2024)
- Kimura M. Evolutionary rate at the molecular level. Nature, 1968, vol. 217, no. 5129, pp. 624–626. doi: 10.1038/217624a0
- King K.M., Rajadhyaksha E.V., Tobey I.G., Van Doorslaer K. Synonymous nucleotide changes drive papillomavirus evolution. Tumour. Virus. Res., 2022, no. 14: 200248. doi: 10.1016/j.tvr.2022.200248
- Liang Y., Chen M., Qin L., Wan B., Wang H. A meta-analysis of the relationship between vaginal microecology, human papillomavirus infection and cervical intraepithelial neoplasia. Infect. Agent Cancer, 2019, no. 14: 29. doi: 10.1186/s13027-019-0243-8. doi: 10.1186/s13027-019-0258-1
- Maglennon G.A., McIntosh P., Doorbar J. Persistence of viral DNA in the epithelial basal layer suggests a model for papillomavirus latency following immune regression. Virology, 2011, vol. 414, no. 2, pp. 153–163. doi: 10.1016/j.virol.2011.03.019
- McBride A.A. Mechanisms and strategies of papillomavirus replication. Biol. Chem., 2017, vol. 398, no. 8, pp. 919–927. doi: 10.1515/hsz-2017-0113
- McBride A.A., Warburton A. The role of integration in oncogenic progression of HPV-associated cancers. PLoS Pathog., 2017, vol. 13, no. 4: e1006211. doi: 10.1371/journal.ppat.1006211
- Mekonnen A.G., Mittiku Y.M. Early-onset of sexual activity as a potential risk of cervical cancer in Africa: a review of literature. PLoS Glob. Public Health, 2023, vol. 3, no. 3: e0000941. doi: 10.1371/journal.pgph.0000941
- Meyers C., Frattini M.G., Hudson J.B., Laimins L.A. Biosynthesis of human papillomavirus from a continuous cell line upon epithelial differentiation. Science, 1992, vol. 257, no. 5072, pp. 971–973. doi: 10.1126/science.1323879
- Moberg M., Gustavsson I., Wilander E., Gyllensten U. High viral loads of human papillomavirus predict risk of invasive cervical carcinoma. Br. J. Cancer, 2005, vol. 92, no. 5, pp. 891–894. doi: 10.1038/sj.bjc.6602436
- Nayar R., Wilbur D.C. The Pap test and Bethesda 2014. Cancer Cytopathol., 2015, vol. 123, no. 5, pp. 271–281. doi: 10.1002/cncy.21521
- PaVE, The Papillomavirus Episteme. URL: https://pave.niaid.nih.gov (21.06.2022)
- Peirson L., Fitzpatrick-Lewis D., Ciliska D., Warren R. Screening for cervical cancer: a systematic review and meta-analysis. Syst Rev., 2013, no. 2: 35. doi: 10.1186/2046-4053-2-35
- Roden R.B.S., Stern P.L. Opportunities and challenges for human papillomavirus vaccination in cancer. Nat. Rev. Cancer, 2018, vol. 18, no. 4, pp. 240–254. doi: 10.1038/nrc.2018.13
- Roerink S.F., van Schendel R., Tijsterman M. Polymerase theta-mediated end joining of replication-associated DNA breaks in C. elegans. Genome Res., 2014, vol. 24, no. 6, pp. 954–962. doi: 10.1101/gr.170431.113
- Rowson K.E., Mahy B.W. Human papova (wart) virus. Bacteriol. Rev., 1967, vol. 31, no. 2, pp. 110–131. doi: 10.1128/br.31.2.110-131.1967
- Sakakibara N., Chen D., McBride A.A. Papillomaviruses use recombination-dependent replication to vegetatively amplify their genomes in differentiated cells. PLoS Pathog., 2013, vol. 9, no. 7: e1003321. doi: 10.1371/journal.ppat.1003321
- Schiffman M., Doorbar J., Wentzensen N., de Sanjosé S., Fakhry C., Monk B.J., Stanley M.A., Franceschi S. Carcinogenic human papillomavirus infection. Nat. Rev. Dis. Primers, 2016, no. 2: 16086. doi: 10.1038/nrdp.2016.86
- Shilova O.N., Tsyba D.L., Shilov E.S. Mutagenic activity of AID/APOBEC deaminases in antiviral defense and carcinogenesis. Mol. Biol., 2022, vol. 56, no. 1, pp. 46–58. doi: 10.1134/S002689332201006X
- Stanley M.A. Epithelial cell responses to infection with human papillomavirus. Clin. Microbiol. Rev., 2012, vol. 25, no. 2, pp. 215–222. doi: 10.1128/CMR.05028-11
- Stanley M.A., Browne H.M., Appleby M., Minson A.C. Properties of a non-tumorigenic human cervical keratinocyte cell line. Int. J. Cancer, 1989, vol. 43, no. 4, pp. 672–676. doi: 10.1002/ijc.2910430422
- Van Doorslaer K. Evolution of the papillomaviridae. Virology, 2013, vol. 445, no. 1–2, pp. 11–20. doi: 10.1016/j.virol.2013.05.012
- Van Doorslaer K., Burk R.D. Evolution of human papillomavirus carcinogenicity. Adv. Virus. Res., 2010, vol. 77, pp. 41–62. doi: 10.1016/B978-0-12-385034-8.00002-8
- Van Doorslaer K., Li Z., Xirasagar S., Maes P., Kaminsky D., Liou D., Sun Q., Kaur R., Huyen Y., McBride A.A. The Papillomavirus Episteme: a major update to the papillomavirus sequence database. Nucleic Acids Res., 2017, vol. 45, no. D1, pp. D499–D506. doi: 10.1093/nar/gkw879
- Voidăzan T.S., Uzun C.C., Kovacs Z., Rosznayai F.F., Turdean S.G., Budianu M.A. The hybrid capture 2 results in correlation with the pap test, sexual behavior, and characteristics of romanian women. Int. J. Environ. Res. Public Health., 2023, vol. 20, no. 5: 3839. doi: 10.3390/ijerph20053839
- Warren C.J., Santiago M.L., Pyeon D. APOBEC3: friend or foe in human papillomavirus infection and oncogenesis? Annu. Rev. Virol., 2022, vol. 9, no. 1, pp. 375–395. doi: 10.1146/annurev-virology-092920-030354
- Willemsen A., Bravo I.G. Origin and evolution of papillomavirus (onco)genes and genomes. Philos. Trans. R Soc. Lond. B Biol. Sci., 2019, vol. 374, no. 1773: 20180303. doi: 10.1098/rstb.2018.0303
- Willemsen A., Félez-Sánchez M., Bravo I.G. Genome plasticity in papillomaviruses and de novo emergence of E5 oncogenes. Genome Biol. Evol., 2019, vol. 11, no. 6, pp. 1602–1617. doi: 10.1093/gbe/evz095
- Zuo J., Huang Y., An J., Yang X., Li N., Huang M., Wu L. Nomograms based on HPV load for predicting survival in cervical squamous cell carcinoma: an observational study with a long-term follow-up. Chin. J. Cancer Res., 2019, vol. 31, no. 2, pp. 389–399. doi: 10.21147/j.issn.1000-9604.2019.02.13
Дополнительные файлы