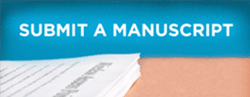Dynamics of alterations in white blood cell and sepsis-associated humoral factors during sulfur mustard intoxication
- Authors: Sidorov S.P.1, Sergeev A.A.1, Zhakovko E.B.1, Chepur S.V.1, Kuzmin A.A.1, Shefer T.V.1, Alekseeva A.S.1
-
Affiliations:
- State Scientific Research Test Institute of Military Medicine of Defense Ministry of the Russian Federation
- Issue: Vol 15, No 2 (2025)
- Pages: 348-360
- Section: ORIGINAL ARTICLES
- Submitted: 27.09.2024
- Accepted: 21.12.2024
- Published: 08.07.2025
- URL: https://iimmun.ru/iimm/article/view/17786
- DOI: https://doi.org/10.15789/2220-7619-DOA-17786
- ID: 17786
Cite item
Full Text
Abstract
Introduction. Sulfur mustard (SM) is an important chemical warfare agent. Lack of antidote and pathogenetic means in the arsenal of modern medicine for the treatment of SM poisoning requires further studies on the pathogenesis and development of protective medical devices and treatment schemes. The aim is to assess the features of immune response and intestinal bacterial translocation during SM intoxication. Materials and methods. The experiments were performed with Chinchilla male rabbits. SM was injected to laboratory animals intramuscularly at a dose of 63 mg/kg, amounting to 1.0 LD84. The test materials presented by blood samples collected by cardiac puncture and from the lateral ear vein. Cardiac blood was used to produce serum and subsequently to determine the level of the sepsis-associated humoral factors (lipopolysaccharide, sCD14, procalcitonin, TNFa, IL-6, IL-10) by using enzyme-linked immunosorbent assay. Results. In the peripheral blood of rabbits there were found changes characterized by decreased total leukocyte count, a development of lymphocytopenia and monocytopenia, as well as two-phase granulocyte count dynamics. The blood leukocyte formula showed the most significant changes related to three cell subsets: segmentonuclear neutrophils, lymphocytes and plasmocytes. The analysis of blood serum for assessing level of the sepsis-associated humoral factors showed that the earliest pathobiochemical change was related to higher sCD14. On day 2 post-exposure, a simultaneous increase in the levels of TNFa, IL-6, IL-10 was reported. The cytokine level was decreasing to baseline range starting from day 3 onwards, whereas the clinical manifestation of SM intoxication was increasing and reaching the maximum magnitude. The analysis of blood serum for lipopolysaccharide level showed its increase on day 3 and 4 post-exposure. Conclusion. The study data in the context of the proposed interpretation, allow to highlight the following phasing of pathological changes during an extremely severe SM intoxication: day 1 — myeloid phagocytic system activation and hyperphagocytosis; day 2 — systemic inflammatory and compensatory anti-inflammatory response syndromes; days 3–4 — “immune paralysis”, intensified bacterial translocation, depletion of the endotoxin-binding system and “endotoxin aggression”.
Full Text
Введение
Сернистый иприт (далее — иприт) относят к высокотоксичным отравляющим веществам кожно-нарывного действия (везиканты). Впервые он был синтезирован более двухсот лет назад — в 1822 г., а первое его применение в качестве боевого поражающего агента предпринято на полях Первой мировой войны в 1917 г. [13, 38]. С тех пор токсикант широко использовали в различных вооруженных конфликтах и войнах XX и XXI веков. В настоящее время применение иприта, равно как и других высокотоксичных веществ, имеющих военное значение, наиболее вероятно по сценарию химического терроризма и представляет не мнимую угрозу [46]. В связи с этим подчеркнем, что существующие подходы к оказанию медицинской помощи пораженным ипритом в целом предусматривают введение симптоматических лекарственных средств, а патогенетическая терапия построена преимущественно на принципах интенсивной терапии критических для жизни состояний. Средства специфической (антидотной и патогенетической) терапии поражений везикантом, обладающие высокой эффективностью, в арсенале современной медицины отсутствуют. Все сказанное выше обосновывает необходимость дальнейшего изучения патогенеза отравлений ипритом и разработки на основе полученных знаний медицинских средств защиты и схем терапии.
Хорошо известно, что вследствие своих алкилирующих свойств иприт обладает чрезвычайно высокой иммунотоксичностью и способен вызывать иммуннодефицитные состояния [8]. Следует отметить, что цитостатические противоопухолевые средства, имеющие принципиально сходный с ипритом механизм действия, также угнетают иммунную систему и с высокой частотой способствуют появлению сепсиса и септических осложнений у онкологических пациентов при химиотерапии [36]. Помимо этого, результаты собственных исследований позволяют утверждать, что в динамике ипритной интоксикации возникают нарушения энтерального, в том числе иммунного, гомеостаза, имеющие важное пато- и танатогенетическое значение [20, 21]. Наконец, нами получены данные, свидетельствующие о выраженных микроэкологических нарушениях желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) при моделировании резорбтивных эффектов токсиканта (материалы в печати). Рассмотрение перечисленных выше данных в комплексе позволило сформулировать гипотезу, согласно которой токсическое действие иприта вследствие формирования критического иммунодефицита на локальном (ЖКТ) и системном уровнях, а также усиления кишечной бактериальной транслокации, может приводить к возникновению сепсиса и септических осложнений.
Таким образом, целью проведения исследования стало изучение особенностей иммунного реагирования и кишечной бактериальной транслокации при интоксикации ипритом.
Материалы и методы
На этапе планирования эксперимента рабочая гипотеза о формировании сепсиса и септических осложнений при ипритной интоксикации предопределила используемые в исследовании вид животных, дозу токсиканта и оцениваемые показатели отклика биологической модели.
При выборе вида лабораторных животных было учтено мнение авторитетного в области сепсиса и системного воспаления французского исследователя Ж. Кавайона, что наиболее часто используемые при проведении экспериментальных медико-биологических исследований виды животных — мыши и крысы — не адекватны для моделирования сепсиса [10]. В связи с этим в качестве биологических объектов были выбраны кролики. В работе использовали 22 кролика-самца породы Шиншилла массой 2,5–3 кг, полученных из питомника «Рапполово» (Ленинградская область). При работе с животными соблюдали требования «Международных рекомендаций (этический кодекс) по проведению медико-биологических исследований с использованием животных» (1985 год), «Европейской конвенции о защите позвоночных животных, используемых для экспериментов или в иных научных целях» (EST № 123 от 18 марта 1986 г.), «Правил проведения работ с использованием экспериментальных животных» (приложение к приказу Министерства здравоохранения СССР от 12 августа 1977 г. № 775), закона Российской Федерации «О ветеринарии» от 14 мая 1993 г. № 4979-1 (редакция от 19 октября 2023 г.). Перед началом эксперимента выдерживали акклиматизационный период (карантин) в течение не менее 14 сут. Лабораторных животных содержали в стандартных условиях вивария, без ограничения доступа к гранулированному корму и воде.
Иприт вводили внутримышечно, в качестве растворителя использовали диметилсульфоксид, содержание которого в рабочих растворах составляло 4%. Выбор для проведения исследования дозы иприта (63 мг/кг), составившей по результатам проведенных нами ранее токсикологических экспериментов 1,0 ЛД84, был обусловлен следующей логикой. Известно, что при тяжелом сепсисе летальность составляет 26–40%, а при септическом шоке — 50–85% [1]. Учитывая, что иприт относят к отравляющим веществам смертельного действия, при проведении эксперимента моделировали клиническую ситуацию, условно близкую по уровню летальности к септическому шоку.
За сутки до введения токсиканта у кроликов отбирали материал для определения фоновых значений оцениваемых показателей, после введения иприта их динамику оценивали ежедневно в течение 4 сут.
Материалом для исследования была выбрана кровь, полученная из краевой ушной вены и при кардиальной пункции. При выполнении процедур по забору крови строго соблюдали правила асептики. В периферической крови определяли количество лейкоцитов, лимфоцитов, моноцитов и гранулоцитов, а также лейкоцитарную формулу. Кардиальную кровь использовали для получения сыворотки и последующего определения содержания в ней сепсис-ассоциированных гуморальных факторов: липополисахарид (ЛПС), растворимая форма рецептора CD14 (sCD14), прокальцитонин (ПКТ), фактор некроза опухоли α (TNFα), интерлейкины 6 (IL-6) и 10 (IL-10).
Анализ лейкоцитарного профиля проводили на ветеринарном анализаторе «Mythic 18» (Orphee, Швейцария).
Лейкоцитарную формулу оценивали при микроскопии мазков, окрашенных по Май-Грюнвальду, в счетной камере Горяева.
Содержание сепсис-ассоциированных гуморальных факторов осуществляли методом иммуноферментного анализа (ИФА). Забор кардиальной крови для приготовления сыворотки проводили в пробирки с активатором свертывания крови, выдерживали при комнатной температуре 30 мин, затем центрифугировали в течение 15 мин на скорости 3000 об/мин. Полученную сыворотку аликвотировали, подвергали немедленному замораживанию при –20°С и хранили при этой температуре до проведения исследования. Содержание оцениваемых показателей проводили в соответствии с протоколами производителей используемых тест-систем для ИФА:
- производства Cusabio Biotech Co., Ltd. (КНР):
- Rabbit Tumor Necrosis Factor α (TNFα) ELISA Kit (каталожный № CSB-E06998Rb), диапазон измеряемых значений — 78–5000 пг/мл, чувствительность — 19,5 пг/мл;
- Rabbit Interleukin 6 (IL-6) ELISA Kit (каталожный № CSB-E06903Rb), диапазон измеряемых значений — 15,6–1000 пг/мл, чувствительность — 3,9 пг/мл;
- Rabbit Interleukin 10 (IL-10) ELISA Kit (каталожный № CSB-E06897Rb), диапазон измеряемых значений — 31,2–2000 пг/мл, чувствительность — 7,8 пг/мл;
- Rabbit Procalcitonin (PCT) ELISA Kit (каталожный № CSB-E12875Rb), диапазон измеряемых значений — 15,6–1000 пг/мл, чувствительность — 3,9 пг/мл;
- производства Puda Scientific Co., Ltd (КНР):
- Rabbit soluble CD14 (sCD14) ELISA Kit (каталожный № PD-Rb8082E), диапазон измеряемых значений — 10–800 пг/мл, чувствительность — 1 пг/мл;
- Rabbit Lipopolysaccharides (LPS) ELISA Kit (каталожный № PD-Rb8086E), диапазон измеряемых значений — 15,6–1000 нг/мл, чувствительность — 5 нг/мл.
При статистическом анализе количественных признаков вычисляли основные дескриптивные характеристики: среднее значение, стандартное отклонение, медиану и интерквартильный размах. Гипотезу о нормальности распределений проверяли с использованием критерия Колмогорова–Смирнова с поправкой Лиллиефорса [34].
Сравнение оцениваемых показателей у кроликов при ипритной интоксикации проводили с фоновыми показателями методом однофакторного дисперсионного анализа по смешанной модели, включающего в себя межгрупповые и внутригрупповые переменные, с последующим апостериорным анализом по методу Даннета. Для уменьшения вероятности ошибочного отклонения нулевой гипотезы при нарушении условия сферичности выполняли поправку статистики F-критерия по методу Гринхауса–Гейсера [35]. Для каждой из величин данные приведены в формате Me [Q1; Q3] — медиана [нижний квартиль; верхний квартиль].
Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез принимали равным 0,05.
Статистический анализ полученных данных проводили с помощью GraphPad Prism 10.1.0 (GraphPad Software, США).
Результаты
Приступая к изложению результатов, полученных при проведении исследования, дадим краткую характеристику наблюдаемых у кроликов клинических проявлений в динамике ипритной интоксикации. Сразу после введения везиканта у большинства животных отклонений в поведении не выявляли, тогда как у некоторых из них регистрировали замирание и адинамию, в редких случаях — кратковременные судороги. Начиная с первых суток у кроликов наблюдали уменьшение потребления корма, переходящее в анорексию. Наиболее яркую манифестацию симптомов ипритной интоксикации (адинамия, заторможенность, анорексия) у лабораторных животных регистрировали на третьи и четвертые сутки, а к пятым — большинство кроликов (20 из 22) погибало.
Динамика количества лейкоцитов и их популяций в периферической крови. В табл. 1 представлены данные, описывающие динамику лейкоцитарного профиля периферической крови кроликов при ипритной интоксикации. Установлено, что изменения общего количества лейкоцитов и их основных популяций, исследованные с помощью гематологического анализатора, состоят в:
- лейкопении, которую наблюдали начиная со вторых суток;
- снижении количества лимфоцитов в 3,5 раза в первые сутки, которое сохранялось на этом уровне весь последующий период наблюдения;
- двухфазной динамике количества гранулоцитов — после кратковременного абортивного подъема в первые сутки наблюдали их снижение, начиная со вторых суток;
- моноцитопении в течение всего периода наблюдения. Отметим, что в фоновых пробах моноциты в количестве 0,1 × 109/л были обнаружены у подавляющего большинства (у 19 из 22) кроликов, тогда как при ипритной интоксикации клетки данного типа, напротив, определяли лишь у единичных животных.
Таблица 1. Лейкоцитарный профиль периферической крови кроликов при ипритной интоксикации
Table 1. Peripheral blood leukocyte profile of rabbits with SM intoxication
Срок наблюдения (количество животных) Observation period (number of animals) | Me [Q1; Q3], 109/л Me [Q1; Q3], 109/L | Уровень значимости, p* Significance level, p* |
Лейкоциты | Leukocytes | ||
Фон (n = 22) | Background (n = 22) | — | |
1 сут (n = 18) | 1 day (n = 18) | > 0,99 | |
2 сут (n = 13) | 2 days (n = 13) | 0,0004 | |
3 сут (n = 10) | 3 days (n = 10) | < 0,0001 | |
4 сут (n = 8) | 4 days (n = 8) | < 0,0001 | |
Лимфоциты | Lymphocytes | ||
Фон (n = 22) | Background (n = 22) | — | |
1 сут (n = 18) | 1 day (n = 18) | < 0,0001 | |
2 сут (n = 13) | 2 days (n = 13) | 0,0002 | |
3 сут (n = 10) | 3 days (n = 10) | 0,049 | |
4 сут (n = 8) | 4 days (n = 8) | 0,002 | |
Гранулоциты | Granulocytes | ||
Фон (n = 22) | Background (n = 22) | — | |
1 сут (n = 18) | 1 day (n = 18) | 0,045 | |
2 сут (n = 13) | 2 days (n = 13) | 0,04 | |
3 сут (n = 10) | 3 days (n = 10) | 0,03 | |
4 сут (n = 8) | 4 days (n = 8) | 0,01 | |
Моноциты | Monocytes | ||
Фон (n = 22) | Background (n = 22) | — | |
1 сут (n = 18) | 1 day (n = 18) | 0 [0; 0] | 0,001 |
2 сут (n = 13) | 2 days (n = 13) | 0 [0; 0] | 0,0001 |
3 сут (n = 10) | 3 days (n = 10) | 0 [0; 0] | 0,01 |
4 сут (n = 8) | 4 days (n = 8) | 0,01 | |
Примечание. * — в сравнении с фоновыми показателями.
Note. * — compared to background indicators.
Динамика изменения показателей лейкоцитарной формулы периферической крови. Результаты анализа фоновых проб периферической крови кроликов показали характерный для данного вида животных преимущественно лимфоцитарный профиль лейкоцитарной формулы (табл. 2). Основу клеточной популяции лейкоцитов в процентном выражении составили лимфоциты (74,0%) и сегментоядерные нейтрофилы (23,5%).
Таблица 2. Динамика изменения показателей лейкоцитарной формулы периферической крови кроликов при ипритной интоксикации
Table 2. Dynamics of changes in peripheral blood leukocyte formula of rabbits during SM intoxication
Срок наблюдения (количество животных) Observation period (number of animals) | Me [Q1; Q3], 109/л Me [Q1; Q3], 109/L | Уровень значимости, p* Significance level, p* |
Миелоциты | Myelocytes | ||
Фон (n = 22) | Background (n = 22) | — | |
1 сут (n = 19) | 1 day (n = 19) | 0,54 | |
2 сут (n = 19) | 2 days (n = 19) | 0,75 | |
3 сут (n = 18) | 3 days (n = 18) | 0,95 | |
4 сут (n = 15) | 4 days (n = 15) | 0,77 | |
Метамиелоциты | Metamyelocytes | ||
Фон (n = 22) | Background (n = 22) | — | |
1 сут (n = 19) | 1 day (n = 19) | 0 | 0,99 |
2 сут (n = 19) | 2 days (n = 19) | 0,6 | |
3 сут (n = 18) | 3 days (n = 18) | 0 | 0,62 |
4 сут (n = 15) | 4 days (n = 15) | 0 | 0,98 |
Палочкоядерные нейтрофилы | Band neutrophils | ||
Фон (n = 22) | Background (n = 22) | — | |
1 сут (n = 19) | 1 day (n = 19) | 0,99 | |
2 сут (n = 19) | 2 days (n = 19) | 0,32 | |
3 сут (n = 18) | 3 days (n = 18) | 0,09 | |
4 сут (n = 15) | 4 days (n = 15) | 0,78 | |
Сегментоядерные нейтрофилы | Segmented neutrophils | ||
Фон (n = 22) | Background (n = 22) | — | |
1 сут (n = 19) | 1 day (n = 19) | < 0,0001 | |
2 сут (n = 19) | 2 days (n = 19) | 0,0009 | |
3 сут (n = 18) | 3 days (n = 18) | 0,95 | |
4 сут (n = 15) | 4 days (n = 15) | 0,38 | |
Лимфоциты | Lymphocytes | ||
Фон (n = 22) | Background (n = 22) | — | |
1 сут (n = 19) | 1 day (n = 19) | < 0,0001 | |
2 сут (n = 19) | 2 days (n = 19) | 0,0001 | |
3 сут (n = 18) | 3 days (n = 18) | 0,47 | |
4 сут (n = 15) | 4 days (n = 15) | 0,06 | |
Плазмоциты | Plasmocytes | ||
Фон (n = 22) | Background (n = 22) | 0 [0; 0] | — |
1 сут (n = 19) | 1 day (n = 19) | 0,0003 | |
2 сут (n = 19) | 2 days (n = 19) | < 0,0001 | |
3 сут (n = 18) | 3 days (n = 18) | < 0,0001 | |
4 сут (n = 15) | 4 days (n = 15) | < 0,0001 | |
Примечание. * — в сравнении с фоновыми показателями.
Note. * — compared to background indicators.
Отличительной особенностью лейкоцитарной формулы крови кроликов были единичные визуально идентифицируемые эозинофилы, базофилы и моноциты в фоновых пробах, а также в пробах, полученных после введения иприта.
Исследование процентного соотношения различных видов лейкоцитов в капиллярной крови при ипритной интоксикации показало наиболее существенные изменения в отношении клеток трех популяций: сегментоядерные нейтрофилов (СЯН), лимфоцитов и плазмоцитов (табл. 2).
Увеличение процента (абортивный подъем) зрелых СЯН наблюдали на первые и вторые сутки после введения иприта, причем на первые сутки увеличение было более чем трехкратным. На пике интоксикации показатель соответствовал фоновым значениям.
В отличии от СЯН относительное количество лимфоцитов в ранние сроки ипритной интоксикации спадало, при этом на первые сутки регистрировали трехкратное снижение. В более поздние сроки (третьи и четвертые сутки) показатель не отличался от фоновых значений.
Единственной популяцией клеток в лейкоцитарной формуле, которая демонстрировала увеличение в динамике интоксикации в течение всего периода наблюдения, были плазмоциты. Отдельно подчеркнем, что в фоновых пробах лабораторных животных клетки данного типа не были обнаружены ни у одного из лабораторных животных, на первые сутки плазмоциты визуализировали более чем у половины кроликов (у 12 из 19), во вторые — у подавляющего большинства (у 18 из 19), а в третьи и четвертые — у всех животных.
Динамика содержания сепсис-ассоциированных гуморальных факторов в сыворотке крови. При исследовании содержания оцениваемых показателей различные их уровни были обнаружены у всех животных как в фоновых пробах, так и в пробах, отобранных в течение всего периода наблюдения после введения иприта.
Полученные результаты, представленные в табл. 3, демонстрируют, что среди всех оцениваемых гуморальных факторов наиболее ранним (спустя сутки после введения токсиканта) патобиохимическим событием было повышение в 1,6 раза (p < 0,0001) содержания sCD14. Примечательно, что в последующий период наблюдения начиная со вторых суток его содержание вновь соответствовало фоновым значениям.
Таблица 3. Динамика содержания сепсис-ассоциированных гуморальных факторов в сыворотке крови кроликов при ипритной интоксикации
Table 3. Sepsis-associated humoral factors dynamics in the blood serum of rabbits during SM intoxication
Срок наблюдения (количество животных) Observation period (number of animals) | Me [Q1; Q3], 109/л Me [Q1; Q3], 109/L | Уровень значимости, p* Significance level, p* |
sCD14, пг/мл | sCD14, pg/mL | ||
Фон (n = 22) | Background (n = 22) | — | |
1 сут (n = 18) | 1 day (n = 18) | < 0,0001 | |
2 сут (n = 13) | 2 days (n = 13) | 0,93 | |
3 сут (n = 10) | 3 days (n = 10) | 0,97 | |
4 сут (n = 8) | 4 days (n = 8) | 0,99 | |
TNFα, пг/мл | TNFα, pg/mL | ||
Фон (n = 22) | Background (n = 22) | — | |
1 сут (n = 18) | 1 day (n = 18) | > 0,99 | |
2 сут (n = 13) | 2 days (n = 13) | 0,004 | |
3 сут (n = 10) | 3 days (n = 10) | 0,6 | |
4 сут (n = 8) | 4 days (n = 8) | > 0,99 | |
IL-6, пг/мл | IL-6, pg/mL | ||
Фон (n = 22) | Background (n = 22) | — | |
1 сут (n = 18) | 1 day (n = 18) | > 0,99 | |
2 сут (n = 13) | 2 days (n = 13) | 0,003 | |
3 сут (n = 10) | 3 days (n = 10) | > 0,99 | |
4 сут (n = 8) | 4 days (n = 8) | 0,31 | |
IL-10, пг/мл | IL-10, pg/mL | ||
Фон (n = 22) | Background (n = 22) | — | |
1 сут (n = 18) | 1 day (n = 18) | > 0,99 | |
2 сут (n = 13) | 2 days (n = 13) | 0,003 | |
3 сут (n = 10) | 3 days (n = 10) | 0,62 | |
4 сут (n = 8) | 4 days (n = 8) | 0,32 | |
ЛПС, нг/мл | LPS, ng/mL | ||
Фон (n = 22) | Background (n = 22) | — | |
1 сут (n = 18) | 1 day (n = 18) | 0,24 | |
2 сут (n = 13) | 2 days (n = 13) | 0,69 | |
3 сут (n = 10) | 3 days (n = 10) | 0,002 | |
4 сут (n = 8) | 4 days (n = 8) | 0,001 | |
ПКТ, пг/мл | PCT, pg/mL | ||
Фон (n = 22) | Background (n = 22) | — | |
1 сут (n = 18) | 1 day (n = 18) | > 0,99 | |
2 сут (n = 13) | 2 days (n = 13) | > 0,99 | |
3 сут (n = 10) | 3 days (n = 10) | > 0,99 | |
4 сут (n = 8) | 4 days (n = 8) | 0,79 | |
Примечание. * — в сравнении с фоновыми показателями.
Notes. * — compared to background indicators.
На вторые сутки ипритной интоксикации регистрировали одновременное увеличение содержания провоспалительных (TNFα и IL-6) и противовоспалительного (IL-10) цитокинов в 1,5 (p < 0,004), 1,8 (p < 0,003) и 1,7 (p < 0,003) раза соответственно. Отметим, что в дальнейшем содержание перечисленных цитокинов, начиная с третьих суток, снижалось до уровня фоновых значений, тогда как клиническая манифестация ипритной интоксикации, напротив, нарастала и достигала максимальной выраженности.
При оценке в сыворотке крови уровня ЛПС, одного из классических биомаркеров бактериальной транслокации (БТ), установлено повышение его содержания на третьи и четвертые сутки интоксикации, тогда как уровень специфического биохимического маркера сепсиса ПКТ существенно не возрастал в течение всего периода наблюдения за лабораторными животными.
Обсуждение
Иммунная система и системы клеточного обновления костного мозга организма крайне чувствительны к цитостатическим и генотоксическим эффектам иприта [8]. В связи с этим обнаруженные в настоящей работе лейко-, лимфо- и гранулоцитопения, а также снижение относительного количества лимфоцитов в лейкоцитарной формуле периферической крови мы расцениваем как результат прямого иммунотоксического действия везиканта.
Рассматривая формирование лимфоцитопении в ранние сроки ипритной интоксикации, отметим, что высокая чувствительность лимфоцитов к некоторым видам воздействия, например проникающей радиации, хорошо известна [4, 7]. Постлучевую гибель лимфоцитарных клеток регистрируют в ранние сроки после воздействия радиации в относительно небольших дозах (1–2 Гр). Высокая чувствительность иммунной системы, в частности лимфоцитов, представляющих одну из ключевых популяций иммунокомпетентных клеток, которые детерминируют иммунный статус организма, к токсическому действию иприта, позволяет утверждать, что для описания ипритной интоксикации патогенетически обосновано применение терминов «иммуносупрессия», а также ее наиболее тяжелой клинической формы «иммунный паралич», который соответствует состоянию полной ареактивности иммунной системы. Вообще, термин «иммунный паралич» и в отечественной, и в зарубежной литературе используют преимущественно в контексте исследований, посвященных сепсису и его осложнениям [9, 19]. В пользу констатации феномена «иммунного паралича», формирующегося в условиях критической лейкопении, также свидетельствует обнаруженная при ипритной интоксикации у кроликов «нормализация» сывороточных концентраций TNFα, IL-6 и IL-10 на пике клинических проявлений отравления. В связи с этим обстоятельством примечательно, что именно ареактивность вследствие иммуносупрессии и «иммунный паралич» рассматривают в качестве основных причин летальности во вторую фазу септического процесса, для которой характерно формирование и доминирование синдрома компенсаторного противовоспалительного ответа (СКПО), сменяющего синдром системного воспалительного ответа (ССВО) [3, 22, 39]. Кроме того, отсутствие повышения относительного количества палочкоядерных и юных форм нейтрофилов в лейкоцитарной формуле после введения иприта кроликам может говорить не столько об отсутствии признаков тяжелого течения инфекционного или воспалительного процессов, сколько о неспособности иммунной системы адекватно реагировать на вызванные везикантом нарушения иммунного гомеостаза.
Помимо обнаруженных признаков иммуносупрессии и «иммунного паралича» при ипритной интоксикации у кроликов обратим внимание на уже упомянутые провоспалительные эффекты везиканта (повышение сывороточных концентраций TNFα и IL-6 на вторые сутки наблюдения). Говоря в целом, способность иприта индуцировать синтез различного типа клетками провоспалительных цитокинов продемонстрирован в большом количестве in vitro и in vivo исследований [18, 29, 31, 40, 41, 42, 43, 48]. Данную особенность токсического действия везиканта связывают с его прямыми цитотоксическими эффектами — алкилированием нуклеофильных сайтов широкого спектра биологических макромолекул (нуклеиновые кислоты, белки, липиды и др.). В результате этого возникают различные продукты первичной альтерации, которые выступают в качестве мощных флогогенных стимулов.
Остановимся на интерпретации полученных данных о динамике одной их наиболее важных с позиции формирования воспаления популяции лейкоцитов — моноцитов. Вполне вероятно, что наблюдаемая при воздействии иприта моноцитопения может быть результатом экстравазации моноцитов из сосудистого русла, направленной на элиминацию в тканях поврежденных или погибших в результате цитотоксического действия иприта клеток [18]. Миграция моноцитов в данном случае координирована теми же стимулами (различные факторы адгезии и хемотаксиса), которые участвуют в миграции других воспалительных клеток, например нейтрофилов. В пользу высказанного мнения может свидетельствовать обнаружение моноцитопении в ранние сроки отравления ипритом, когда алкилирующие эффекты везиканта и, соответственно, клеточные и тканевые повреждения наиболее вероятны.
Существующие в настоящее время представления позволяют говорить о связи активности моноцитов с уровнем sCD14 в системном кровотоке. Некоторые авторы интерпретируют повышение sCD14 исключительно как маркер моноцитарной активации, индуцированной ЛПС [24]. Существуют данные, показывающие, что количество мембранных mCD14 (один из основных источников sCD14 в организме) на поверхности моноцитов наибольшее среди клеток периферической крови человека [30]. Вместе с тем рассматривая динамику наблюдаемых изменений в лейкоцитарной формуле крови и динамику sCD14, следует предположить, что повышение его сывороточных концентраций при ипритной интоксикации ассоциировано не только с активностью моноцитов, но и нейтрофилов. Оба типа клеток одними из первых реагируют на тканевое повреждение, инициируют врожденный иммунный ответ организма и обусловливают значительный вклад в продукцию суммарного пула sCD14 в системном кровотоке [28]. С учетом общего происхождения от миелоидного ростка крови они представляют собой единую миелоидную фагоцитарную систему, а полноценный иммунный ответ возможен только при условии их кооперативного взаимодействия [6, 44, 45]. В пользу высказанного предположения может также указывать совпадение абортивного подъема относительного количества СЯН в лейкоцитарной формуле периферической крови с повышением сывороточных концентраций sCD14 в первые сутки и провоспалительных цитокинов (TNFα, IL-6) — на вторые сутки. В поддержку озвученного мнения, кроме того, говорят данные Хасановой Г.Р. и соавт., установившие корреляционную связь между количеством лейкоцитов, уровнем sCD14 и TNFα в крови у больных ВИЧ-инфекцией [23].
Однако не все полученные в настоящей работе данные можно рационально объяснить с позиции иммуно- и цитотоксичности везиканта. Полноценная их интерпретация требует расширения существующих научных представлений о патогенезе ипритной интоксикации. Для этого обратимся к феномену БТ, концепциям «эндотоксиновой агрессии» и антиэндотоксинового иммунитета (эндотоксин-связывающая система).
Под кишечной БТ в настоящее время понимают прохождение жизнеспособных бактерий, их компонентов, токсинов и метаболитов через слизистую оболочку кишечника в экстраинтестинальные органы и ткани организма (мезентеральные лимфатические узлы, печень, селезенку, лимфу, кровоток и др.) [16]. БТ как патологическому феномену способствуют три группы факторов: снижение местной (общей) иммунной реактивности организма, несостоятельность барьерной функции покровного эпителия и дисбиоз [32]. Учитывая характер токсических эффектов иприта на энтеральный гомеостаз, теоретически усиление кишечной БТ может быть патогенетическим звеном ипритной интоксикации.
Значительную часть биологических эффектов при БТ объясняют действием ЛПС (эндотоксин) грамотрицательных бактерий. Известно, что ЛПС приводит к дифференцированной экспрессии более 150 генов, большинство из которых выполняют важную роль в воспалительном ответе, и активации практически всех адаптивных (иммунной, эндокринной, нервной и др.) систем организма [33, 37]. Связывание ЛПС клетками организма (гранулоциты, моноциты, макрофаги, эндотелиоциты и др.) с одной стороны индуцирует формирование комплекса защитных реакций, а с другой — продукцию провоспалительных цитокинов и цитокин-опосредованную деструкцию различных органов и тканей, что вызывает патологическое состояние, именуемое «эндотоксиновой агрессией» [15, 25, 27]. Данное состояние в настоящее время считают универсальным фактором патогенеза различных заболеваний человека и животных.
Согласно предложенной отечественными учеными концепции антиэндотоксинового иммунитета, направленного на гомеостазирование уровня ЛПС в организме, полиморфноядерные лейкоциты (ПМЯЛ) играют важную роль в процессах захвата, транспорта и элиминации эндотоксина [2, 6, 14, 26]. Установлено, что клиренс ЛПС нейтрофилами может быть осуществлен посредством IgG, фиксированных на мембранных Fc-рецепторах [11]. Так, практически у всех здоровых людей в периферической крови обнаруживают ПМЯЛ (около 3,5% всей популяции клеток), связывающие ЛПС при помощи Fc-опосредованного механизма [12]. Таким образом, снижение эндотоксин-связывающего потенциала нейтрофилов, обусловленное критическим уменьшением их количества вследствие миело- и иммунотоксического эффектов везиканта, может быть важным звеном дисрегуляции гоместаза ЛПС в организме при ипритной интоксикации.
В связи с полученными данными, указывающими на нарастание в течение всего периода ипритной интоксикации у лабораторных животных относительного количества плазмоцитов в лейкоцитарной формуле и повышение содержания ЛПС в сыворотке крови на третьи и четвертые сутки наблюдения, упомянем, что ЛПС является классическим митогеном и способен вызывать неспецифическую поликлональную В-лимфоцитарную активацию. При этом происходит пролиферация и дифференцировка клеток в зрелые плазмоциты, составляющие основу гуморального иммунитета [5]. Указанное свойство ЛПС используют в иммунологической диагностике при постановке реакции бласттрансформации. Продукция антиэндотоксиновых антител плазмоцитами в физиологических условиях представляет собой важный компонент гуморального звена эндотоксин-связывающей системы (ЭСС) организма [2, 11]. Следовательно, нарастание в течение ипритной интоксикации относительного количества плазмоцитов в лейкоцитарной формуле можно расценивать как защитно-компенсаторную реакцию, направленную на гомеостазирование содержания ЛПС во внутренней среде организма.
В свете рассматриваемой «эндотоксиновой агрессии» также подчеркнем, что повышение уровня сывороточных концентраций sCD14, TNFα и IL-6, регистрируемое после введения везиканта, в определенной мере может быть обусловлено не только цитотоксическим действием везиканта, но и провоспалительными эффектами ЛПС, поступающим в избыточном количестве в циркуляторное русло вследствие барьерной дисфункции кишечника. Относительно sCD14, существует мнение, что данный гуморальный фактор, обладая высокой аффинностью к ЛПС и конкурируя за связывание с mCD14, может ограничивать биологические эффекты эндотоксина [6].
Подводя итог обсуждению полученных результатов, можно констатировать, что резорбтивные эффекты иприта индуцируют усиление БТ из кишечника, представляющего собой естественный резервуар колоссального количества микроорганизмов в организме млекопитающих, и приводят к «эндотоксиновой агрессии», которая последовательно проходит через этапы компенсации и декомпенсации ЭСС. Особенность наблюдаемых изменений состоит в том, что усиление БТ и «эндотоксиновая агрессия» протекают на фоне «иммунного паралича».
Учитывая, что существенные изменения содержания специфического маркера сепсиса ПКТ при ипритной интоксикации не были установлены, формально утверждать о наличии сепсиса нельзя. Однако в последние годы опубликованы работы, подвергающие сомнению информативность ПКТ как маркера инфекционных осложнений и сепсиса, например при тяжелой травме [17, 47]. Поэтому диагностическая ценность ПКТ в отношении сепсиса не абсолютна и при различных нозологических формах она может существенно варьировать. Следовательно, предположить определенные общие элементы патогенеза ипритной интоксикации и сепсиса вполне допустимо.
Заключение
Результаты проведенных исследований с учетом предлагаемой их интерпретации позволяют выделить следующую этапность патологических изменений, происходящих на системном уровне при крайне тяжелом течении ипритной интоксикации у кроликов:
- 1 сутки — активация миелоидной фагоцитарной системы и гиперфагоцитоз (повышение количества гранулоцитов и увеличение процентного содержания СЯН в лейкоцитарной формуле периферической крови, повышение уровня sCD14 в сыворотке крови);
- 2 сутки — системный воспалительный и компенсаторный противовоспалительный ответ (повышение содержания TNFα, IL-6 и IL-10 в сыворотке крови);
- 3–4 сутки — «иммунный паралич» («нормализация» уровней TNFα, IL-6 и IL-10 в сыворотке крови при явном ухудшении клинического состояния лабораторных животных), усиление кишечной БТ, истощение ЭСС и «эндотоксиновая агрессия» (повышение содержания ЛПС).
Таким образом, фармакологическую коррекцию иммунных нарушений и усиления БТ необходимо рассматривать важнейшими направлениями патогенетической терапии резорбтивных форм поражения ипритом. Эффективность предлагаемых медикаментозных подходов предстоит оценить.
About the authors
S. P. Sidorov
State Scientific Research Test Institute of Military Medicine of Defense Ministry of the Russian Federation
Email: sidorovsp@gmail.com
PhD (Medicine), Head of Research Department
Россия, St. PetersburgA. A. Sergeev
State Scientific Research Test Institute of Military Medicine of Defense Ministry of the Russian Federation
Email: sidorovsp@gmail.com
PhD (Biology), Senior Researcher
Россия, St. PetersburgE. B. Zhakovko
State Scientific Research Test Institute of Military Medicine of Defense Ministry of the Russian Federation
Email: sidorovsp@gmail.com
PhD (Biology), Senior Researcher
Россия, St. PetersburgS. V. Chepur
State Scientific Research Test Institute of Military Medicine of Defense Ministry of the Russian Federation
Email: sidorovsp@gmail.com
DSc (Medicine), Professor, Head
Россия, St. PetersburgA. A. Kuzmin
State Scientific Research Test Institute of Military Medicine of Defense Ministry of the Russian Federation
Email: sidorovsp@gmail.com
DSc (Medicine), Head Researcher
Россия, St. PetersburgT. V. Shefer
State Scientific Research Test Institute of Military Medicine of Defense Ministry of the Russian Federation
Email: sidorovsp@gmail.com
DSc (Medicine), Head of Scientific Research Office
Россия, St. PetersburgA. S. Alekseeva
State Scientific Research Test Institute of Military Medicine of Defense Ministry of the Russian Federation
Author for correspondence.
Email: sidorovsp@gmail.com
Researcher
Россия, St. PetersburgReferences
- Алиев С.А., Алиев Э.С., Гумматов А.Ф. Сепсис: старые догмы и эволюция представлений // Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова. 2020. Т. 15, № 1. С. 132–136. [Aliev S.A., Aliev E.S., Hummatov A.F. Sepsis: old dogmas and the evolution of conception. Vestnik Natsional’nogo mediko-khirurgicheskogo tsentra im. N.I. Pirogova = Bulletin of Pirogov National Medical & Surgical Center, 2020, vol. 15, no. 1, pp. 132–136. (In Russ.)] doi: 10.25881/BPNMSC. 2020.32.34.023
- Аполлонин A.B., Яковлев М.Ю., Рудик A.A., Лиходед В.Г. Эндотоксин-связывающие системы крови // Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. 1990. № 11. С. 100–106. [Apollonin A.V., Yakovlev M.Yu., Rudik A.A., Lihoded V.G. Endotoxin-binding blood systems. Zhurnal mikrobiologii, epidemiologii i immunobiologii = Journal of Microbiology, Epidemiology and Immunobiology, 1990, no. 11, pp. 100–106. (In Russ.)]
- Белобородов В.Б. Иммунопатология тяжелого сепсиса и возможности ее коррекции // Вестник интенсивной терапии. 2010. № 4. С. 3–8. [Beloborodov V.B. Immunopathology of severe sepsis and its management. Vestnik intensivnoi terapii im. A.I. Saltanova = Annals of Critical Care, 2010, no. 4, pp. 3–8. (In Russ.)]
- Бонд В., Флиднер Т., Аршамбо Д. Радиационная гибель млекопитающих. Нарушение кинетики клеточных популяций. Пер. с англ.: А.Г. Свердлов и др. М.: Атомиздат, 1971. 320 с. [Bond V., Flidner T., Arshambo D. Radiation death of mammals. Kinetics violation of cell populations. Trans. from Eng.: A.G. Sverdlov et al. Moscow: Atomizdat, 1971. 320 p. (In Russ.)]
- Васильев В.С. Липополисахариды в процессе иммуногенеза: тенденции научного поиска и итоги изучения в условиях инфекционной патологии // Журнал Гродненского государственного медицинского университета. 2014. Т. 1, № 45. С. 98–103. [Vasilyev V.S. Lipopolysaccharides during immunogenesis: scientific search trends and results in the study of infectious diseases. Zhurnal Grodnenskogo gosudarstvennogo meditsinskogo universiteta = Journal of the Grodno State Medical University, 2015, vol. 1, no. 45, pp. 98–103. (In Russ.)]
- Грачев С.В., Прохоренко И.Р., Зубова С.В., Кабанов Д.С., Косякова Н.И., Прохоренко С.В., Мельцер М. Молекулярные механизмы взаимодействия эндотоксинов с клетками-мишенями. М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2012. 256 с. [Grachev S.V., Prokhorenko I.R., Zubova S.V., Kabanov D.S., Kosyakova N.I., Prokhorenko S.V., Mel’tser M. Molecular mechanisms of endotoxins interaction with target cells. Moscow: Medicinskoe informacionnoe agentstvo, 2012. 256 p. (In Russ.)]
- Гребенюк А.Н., Легеза В.И., Евдокимов В.И., Салухов В.В., Тимошевский А.А. Радиационная медицина: учебное пособие, Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова МЧС России. СПб.: Политехника-сервис. 2013. Ч. 2: Клиника, профилактика и лечение радиационных поражений. 156 с. [Grebenyuk A.N., Legeza V.I., Evdokimov V.I., Salukhov V.V., Timoshevskii A.A. Radiation medicine: textbook. All-Russian center of emergency and radiation medicine named after A.M. Nikiforov EMERCOM of Russia. SPb.: Politekhnika-servis, 2013, pt 2: Clinic, prevention and treatment of radiation injuries. 156 p. (In Russ.)]
- Забродский П.Ф., Мандыч В.Г. Иммунотоксикология ксенобиотиков. Саратов: Издательство СВИБХБ, 2007. 420 с. [Zabrodskii P.F., Mandych V.G. Immunotoxicology of xenobiotics. Saratov: Izdatelstvo SVIBHB, 2007. 420 p. (In Russ.)] doi: 10.13140/RG.2.2.17869.64483
- Иванов Ф.В. Современная тактика диагностики и лечения сепсиса (обзор литературы) // Вестник новых медицинских технологий. 2023. № 2. С. 24–30. [Ivanov F.V. Modern tactics of diagnosis and treatment of sepsis (review). Vestnik novykh meditsinskikh tekhnologii = Journal of New Medical Technologies, 2023, no. 2, pp. 24–30. (In Russ.)] doi: 10.24412/1609-2163-2023-2-24-30
- Кавайон Ж. Новые методы лечения при сепсисе: модели на животных «не работают» (обзор) // Общая реаниматология. 2018. Т. 14, № 3. С. 46–53. [Cavaillon J. New approaches to treat sepsis: animal models «do not work» (review). Obshchaya reanimatologiya = General Reanimatology, 2018, vol. 14, no. 3, pp. 46–53. (In Russ.)] doi: 10.15360/1813-9779-2018-3-46-53
- Лиходед В.Г., Бондаренко В.М. Антиэндотоксиновый иммунитет в регуляции численности эшерихиозной микрофлоры кишечника. М.: Медицина, 2007. 216 с. [Likhoded V.G., Bondarenko V.M. Antiendotoxin immunity in the regulation of Escherichia intestinal microflora number. Мoscow: Medicine, 2007. 216 p. (In Russ.)]
- Лиходед В.Г., Ющук Н.Д., Яковлев М.Ю. Роль эндотоксина грамотрицательных бактерий в инфекционной и неинфекционной патологии // Архив патологии. 1996. № 2. С. 8–13. [Lihoded V.G., Yushchuk N.D., Yakovlev M.Yu. The role of gram-negative bacteria endotoxin in infectious and non-infectious pathology. Arkhiv patologii = Archive of Pathology, 1996, no. 2, pp. 8–13. (In Russ.)]
- Лос К. Синтетические яды: Пер. с нем. М.: Иностранная литература, 1963. 260 с. [Los K. Synthetic poisons. Trans. from Germ. Moscow: Inostrannaya literatura, 1963, 260 p. (In Russ.)]
- Пермяков Н.К., Аниховская И.А., Лиходед В.Г., Яковлев М.Ю. Иммуноморфологическая оценка резервов связывания эндотоксина полиморфноядерными лейкоцитами // Архив патологии. 1995. С. 4–7. [Permyakov N.K., Anihovskaya I.A., Lihoded V.G., Yakovlev M.Yu. Immunomorphological assessment of endotoxin binding reserves by polymorphonuclear leukocytes. Arkhiv patologii = Archive of Pathology, 1995, pp. 4–7. (In Russ.)]
- Пермяков Н.К., Яковлев М.Ю., Галанкин В.Н. Эндотоксин и система полиморфноядерного лейкоцита // Архив патологии. 1989. Т. 51, № 5. С. 4–6. [Permyakov N.K., Yakovlev M.Yu., Galankin V.N. Endotoxin and the polymorphonuclear leukocyte system. Arkhiv patologii = Archive of Pathology, 1989, vol. 51, no. 5, pp. 4–6. (In Russ.)]
- Подопригора Г.И. Микробиотический фактор развития системы мононуклеарных фагоцитов (гнотобиологические исследования) // Вестник Российской академии медицинских наук. 2013. Т. 68, № 6. C. 26–33. [Podoprigora G.I. Microbiotic factor influencing the mononuclear phagocyte system development. Vestnik Rossiiskoi akademii meditsinskikh nauk = Herald of the Russian Academy of Sciences, 2013, vol. 68, no. 6, pp. 26–33. (In Russ.)] doi: 10.15690/vramn.v68i6.670
- Полушин Ю.С., Афанасьев А.А., Пивоварова Л.П., Малышев М.Е. Клинико-диагностическое значение уровня прокальцитонина у пострадавших с тяжелой сочетанной травмой // Вестник анестезиологии и реаниматологии. 2015. Т. 12, № 1. С. 46–53. [Polushin Yu.S., Afanasyev A.A., Pivovarova L.P., Malyshev M.E. Clinical and diagnostic value of procalcitonin levels in victims of severe concomitant injury. Vestnik anesteziologii i reanimatologii = Messenger of Anesthesiology and Resuscitation, 2015, vol. 12, no. 1, pp. 46–53. (In Russ.)] doi: 10.21292/2078-5658-2015-12-1-46-53
- Саватеев А.В., Стосман К.И., Саватеева-Любимова Т.Н. Апоптоз и воспаление в патогенезе интоксикации ипритом. В кн.: Труды Института токсикологии, посвященные 75-летию со дня основания / Под ред. проф. С.П. Нечипоренко. СПб.: Элби-СПб, 2010. С. 273–289. [Savateev A.V., Stosman K.I., Savateeva-Lyubimova T.N. Apoptozis and inflammation in yperite intoxication pathogenesis. In: Toxicology Institute works admitted to 75th anniversary till foundation. Ed. by prof. S.P. Nechiporenko. St. Petersburg: Elbi-SPb Publ., 2010, pp. 273–289. (In Russ.)]
- Сепсис в начале ХXI века. Классификация, клинико-диагностическая концепция и лечение. Патолого-анатомическая диагностика: Практическое руководство / Под ред. В.С. Савельева, Б.Р. Гельфанда. М.: Литтерра, 2006. 176 с. [Sepsis at the beginning of the 20th century. Classification, clinical diagnostic concept and treatment. Pathoanatomical diagnosis: a practical guide / Ed. by V.S. Savelev, B.R. Gelfand. Moscow: Litterra, 2006. 176 p. (In Russ.)]
- Сидоров С.П., Булка К.А., Чепур С.В., Алексеева И.И., Владимирова О.О., Кузьмин А.А., Жаковко Е.Б., Сергеев А.А. Структурные изменения тонкой кишки при моделировании ингаляционного поражения сернистым ипритом // Медлайн.ру. 2023. Т. 24, статья 36. С. 473–487. [Sidorov S.P., Bulka K.A., Chepur S.V., Alekseeva I.I., Vladimirova O.O., Kuzmin A.A., Zhakovko E.B., Sergeev A.A. Structural changes in the small intestine when modeling of sulfur mustard inhalation injury. Medline.ru, 2023, vol. 24, art. 36, pp. 473–487. (In Russ.)]
- Сидоров С.П., Сергеев А.А., Чепур С.В., Алексеева И.И., Владимирова О.О., Жаковко Е.Б., Кузьмин А.А., Ширяева А.И., Булка К.А. Морфофункциональные изменения желудочно-кишечного тракта при интоксикации сернистым ипритом // Вестник уральской медицинской академической науки. 2022. Т. 19, № 2. С. 142–162. [Sidorov S.P., Sergeev A.A., Chepur S.V., Alekseeva I.I., Volodymyrova O.O., Zhakovko E.B., Kuz`min A.A., Shiryaeva A.I., Bulka K.A. Morphofunctional changes in gastrointestinal tract of rats during sulfur mustard intoxication. Vestnik Ural’skoj medicinskoj akademicheskoj nauki = Herald of the Ural Medical Academia, 2022, vol. 19, no. 2, pp. 142–162. (In Russ.)] doi: 10.22138/2500-0918-2022-19-2-142-162
- Хаертынов Х.С., Анохин В.А., Бойчук С.В., Ризванов А.А. Сепсис и апоптоз // Гены и клетки. 2016. Т. 11, № 4. C. 18–21. [Khaertynov K.S., Anokhin V.A., Boichuk S.V., Rizvanov A.A. Sepsis and apoptosis. Geny i kletki = Genes & Cells, 2016, vol. 11, no. 4, pp. 18–21. (In Russ.)] doi: 10.23868/gc120562
- Хасанова Г.Р., Анохин В.А., Нагимова Ф.И. Значение уровня растворимого рецептора CD14 для прогноза прогрессирования ВИЧ-инфекции // Практическая медицина. 2014. Т. 78, № 2. С. 110–114. [Khasanova G.R., Anokhin V.A., Nagimova F.I. Value of soluble CD14 for prognosis of progression of HIV-infection. Prakticheskaya meditsina = Practical Medicine, 2014, vol. 78, no. 2, pp. 110–114. (In Russ.)]
- Холодная А.Н., Лиознов Д.А., Блохина Е.А., Ярославцева Т.С., Крупицкий Е.М. Оценка концентрации растворимого рецептора CD14 в плазме у ВИЧ-инфицированных потребителей опиатов // Журнал инфектологии. 2018. Т. 10, № 1. С. 47–54. [Kholodnaya A.N., Lioznov D.A., Blokhina E.A., Yaroslavtseva T.S., Krupitskiy E.M. Levels of plasma soluble CD14 in HIV-infected opiate users. Zhurnal infektologii = Journal Infectology, 2018, vol. 10, no. 1, pp. 47–54. (In Russ.)] doi: 10.22625/2072-6732-2018-10-1-47-54
- Яковлев М.Ю. Кишечный липополисахарид: системная эндотоксинемия — эндотоксиновая агрессия — SIR-синдром и полиорганная недостаточность как звенья одной цепи // Бюллетень волгоградского научного центра РАМН. 2005. № 6. С. 91–96. [Yakovlev M.Yu. Intestinal lipopolysaccharide: systemic endotoxinemia — endotoxin aggression — SIR-syndrome and multi-organ failure as links in one chain. Byulleten’ volgogradskogo nauchnogo tsentra RAMN = Bulletin of the Volgograd Scientific Centre of the Russian Academy of Medical Sciences, 2005, no. 6, pp. 91–96. (In Russ.)]
- Яковлев М.Ю. Системная эндотоксинемия. М.: Наука. 2021. 184 с. [Yakovlev M.Yu. Systemic endotoxemia. Moscow: Nauka, 2021, 184 p. (In Russ.)]
- Яковлев М.Ю. «Эндотоксиновая агрессия» как предболезнь или универсальный фактор патогенеза заболеваний человека и животных // Успехи современной биологии. 2003. Т. 23, № 1. С. 31–40. [Yakovlev M.Yu. “Endotoxin aggression” as a pre-disease or a universal factor in the pathogenesis of human and animal diseases. Uspehi sovremennoj biologii = Advances in Modern Biology, 2003, no. 1, pp. 31–40. (In Russ.)]
- Akira S., Takeda K. Kaisho T. Toll-like receptors: critical proteins linking innate and acquired immunity. Nat. Immunol., 2001, vol. 2, no. 8, pp. 675–680. doi: 10.1038/90609
- Anand T., Vijayaraghavan R., Bansal I. Bhattacharya B.K. Role of inflammatory cytokines and DNA damage repair proteins in sulfur mustard exposed mice liver. Toxicology Mechanisms and Methods, 2009, vol. 19, no. 5, pp. 356–362. doi: 10.1080/15376510902903766
- Antal-Szalmas P., Strijp J.A., Weersink A.J., Verhoef J., Van Kessel K.P. Quantitation of surface CD14 on human monocytes and neutrophils. J. Leukoc. Biol., 1997, vol. 61, no. 6, pp. 721–728. doi: 10.1002/jlb.61.6.721
- Arroyo C.M., Schafer R.J., Kurt E.M., Broomfield C.A., Carmichael A.J. Response of normal human keratinocytes to sulfur mustard (HD): cytokine release using a non-enzymatic detachment procedure. Human & Experimental Toxicology, 1999, vol. 18, no. 1, pp. 1–11. doi: 10.1177/096032719901800101
- Berg R.D. Bacterial translocation from the gastrointestinal tract. Adv. Exp. Med. Biol., 1999, vol. 473, pp. 11–30. doi: 10.1016/S0966-842X(00)88906-4
- Calvano S.E., Xiao W., Richards D.R., Felciano R.M., Baker H.V., Cho R.J., Chen R.O., Brownstein B.H., Cobb J.P., Tschoeke S.K., Miller-Graziano C., Moldawer L.L., Mindrinos M.N., Davis R.W., Tompkins R.G., Lowry S.F.; Inflamm and Host Response to Injury Large Scale Collab. Res. Program. A network-based analysis of systemic inflammation in humans. Nature, 2005, vol. 437, pp. 1032–1037. doi: 10.1038/nature03985
- Dallal G.E., Wilkinson L. An analytic approximation to the distribution of Lilliefors’ test for normality. Am. Stat., 1986, vol. 40, no. 4, pp. 294–296. doi: 10.1080/00031305.1986.10475419
- Geisser S., Greenhouse S.W. An extension of Box’s result on the use of F distribution in multivariate analysis. Ann. Math. Stat., 1958, vol. 29, no. 3, pp. 885–891. doi: 10.1214/aoms/1177706545
- Gudiol C., Albasanz-Puig A., Cuervo G., Carratalà J. Understanding and managing sepsis in patients with cancer in the era of antimicrobial resistance. Front. Med. (Lausanne), 2021, vol. 8: 636547. doi: 10.3389/fmed.2021.636547
- Guha M., Mackman N. LPS induction of gene expression in human monocytes. Cell Signal, 2001, vol. 13, no. 2, pp. 85–94. doi: 10.1016/s0898-6568(00)00149-2
- Gupta R.C. Handbook of Toxicology of Chemical Warfare Agents. 3rd. Edition. Academic Press, 2020, 1284 p. doi: 10.1016/B978-0-12-374484-5.X0001-6
- Hotchkiss R.S., Karl I.E. The pathophysiology and treatment of sepsis. N. Engl. J. Med, 2003, vol. 348, no. 2, pp. 138–150. doi: 10.1056/nejmra021333
- Malaviya R., Sunil V.R., Venosa A., Vayas K.N., Businaro R., Heck D.E., Laskin J.D., Laskin D.L. Macrophages and inflammatory mediators in pulmonary injury induced by mustard vesicants. Ann. N.Y. Acad. Sci., 2016, vol. 1374, no. 1, pp. 168–175. doi: 10.1111/nyas.13123
- Mishra N.C., Rir-sima-ah J., March T., Weber W., Benson J., Jaramillo R., Seagrave J.C., Schultz G., Grotendorst G., Sopori M. Sulfur mustard induces immune sensitization in hairless guinea pigs. Int. Immunopharmacol., 2010, vol. 10, no. 2, pp. 193–199. doi: 10.1016/j.intimp.2009.10.015
- Ricketts K.M., Santai C.T., France J.A., Graziosi A.M., Doyel T.D., Gazaway M.Y., Casillas R.P. Inflammatory cytokine response in sulfur mustard-exposed mouse skin. J. Appl. Toxicol., 2000, vol. 20, no. S1, pp. S73–S76. doi: 10.1002/1099-1263(200012)20:1+ <::aid-jat685>3.0.co;2-h
- Sabourin C.L.K., Danne M.M., Buxton K.L., Casillas R.P., Schlager J.J. Cytokine, chemokine, and matrix metalloproteinase response after sulfur mustard injury to weanling pig skin. J. Biochem. Molecular. Toxicology, 2002, vol. 16, no. 6, pp. 263–272. doi: 10.1002/jbt.10050.
- Silva М.T. When two is better than one: macrophages and neutrophils work in concert in innate immunity as complementary and cooperative partners of a myeloid phagocyte system. J. Leukoc. Biol., 2010, vol. 87, no. 1, pp. 93–106. doi: 10.1189/jlb.0809549
- Silva М.T., Correia-Neves M. Neutrophils and macrophages: the main partners of phagocyte cell systems. Front. Immunol., 2012, vol. 3, article 174. doi: 10.3389/fimmu.2012.00174
- Wattana M., Bey T. Mustard gas or sulfur mustard: an old chemical agent as a new terrorist threat. Prehosp. Disaster Med., 2009, vol. 24, no. 1, pp. 19–31. doi: 10.1017/s1049023x0000649x
- Zelzer S., Aigner R.M., Khoschsorur G., Hofer H.P., Schaur R.J., Foldes-Papp Z. Comparative study of the immunological marker IL-6 and the non-immunological marker PCT in surgery patients with infections and multiple trauma. Open Pathol. J., 2009, vol. 3, pp. 124–130. doi: 10.2174/1874375700903010124
- Zhang X., Mei Y., Wang T., Liu F., Jiang N., Zhou W., Zhang Y. Early oxidative stress, DNA damage and inflammation resulting from subcutaneous injection of sulfur mustard into mice. Environ. Toxicol. Pharmacol., 2017, vol. 55, pp. 68–73. doi: 10.1016/j.etap.2017.06.016
Supplementary files